Ответы на вопросы на стр.98 Часть 1 ГДЗ Коровин 11 класс (Литература)
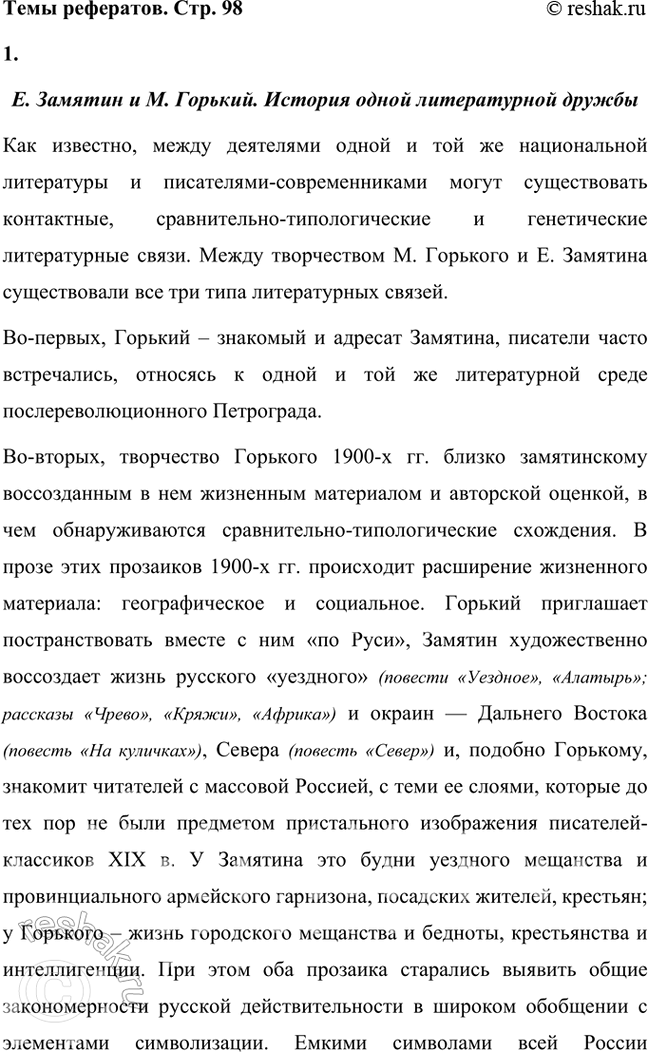
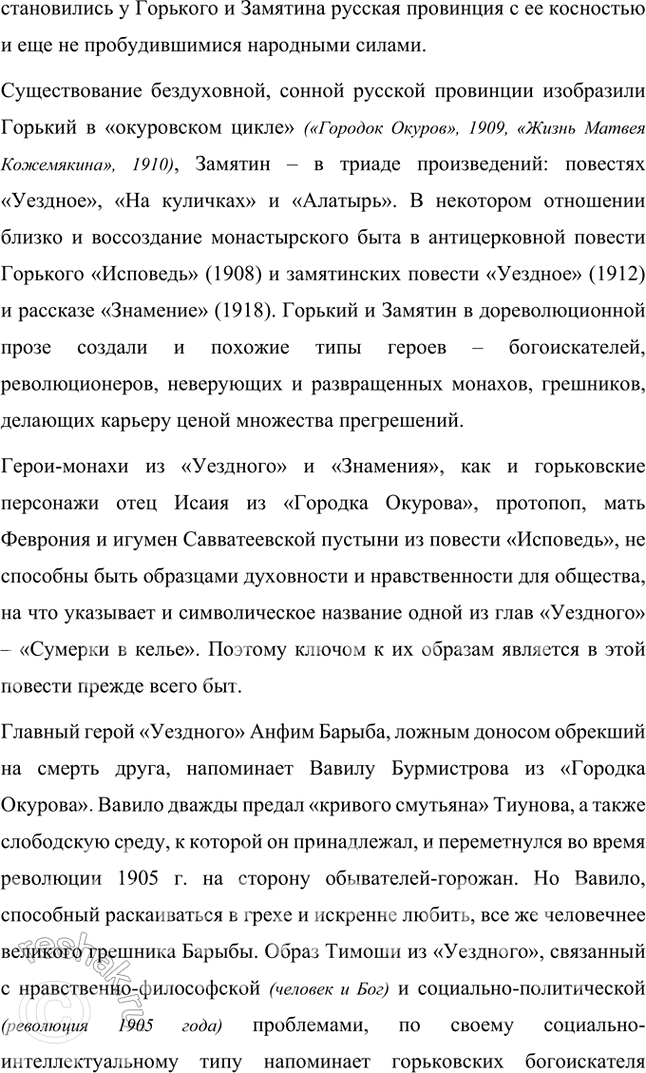
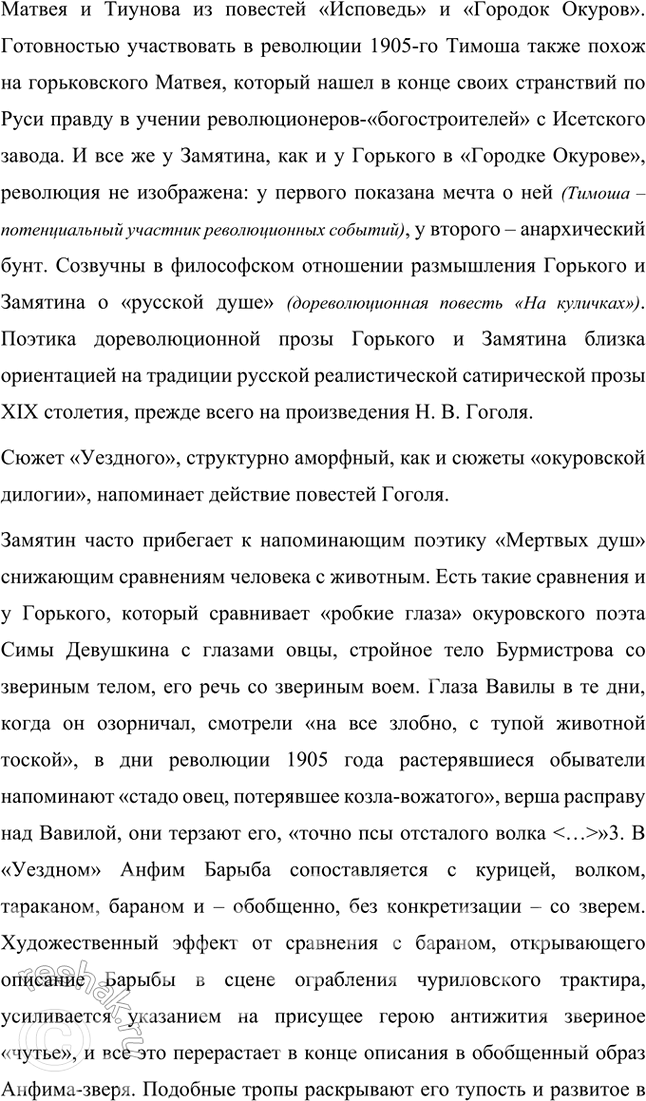
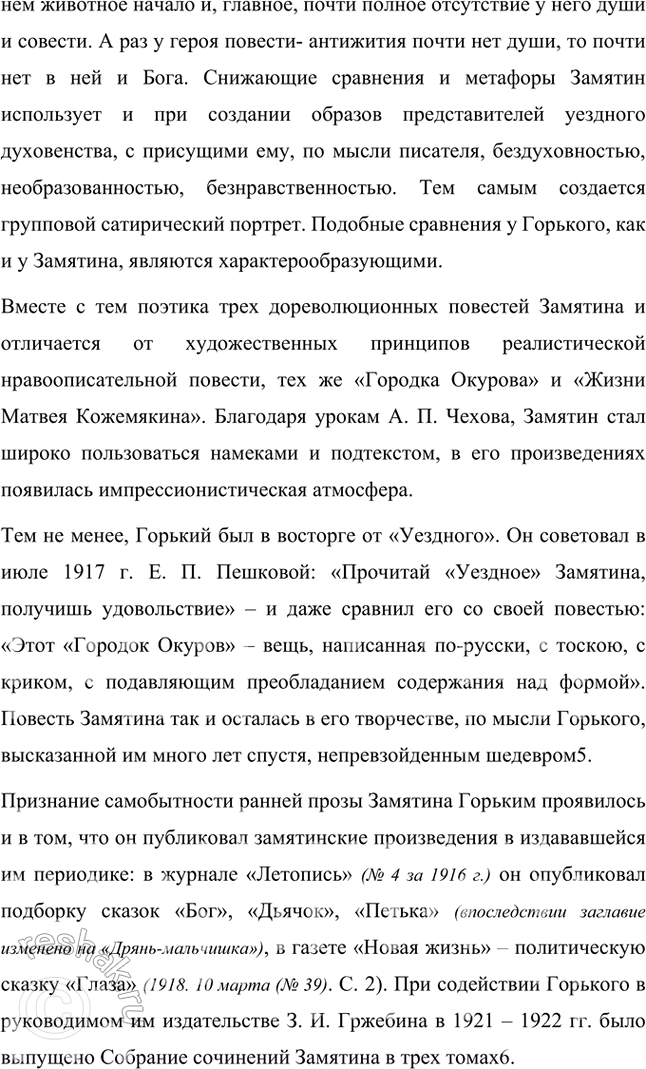
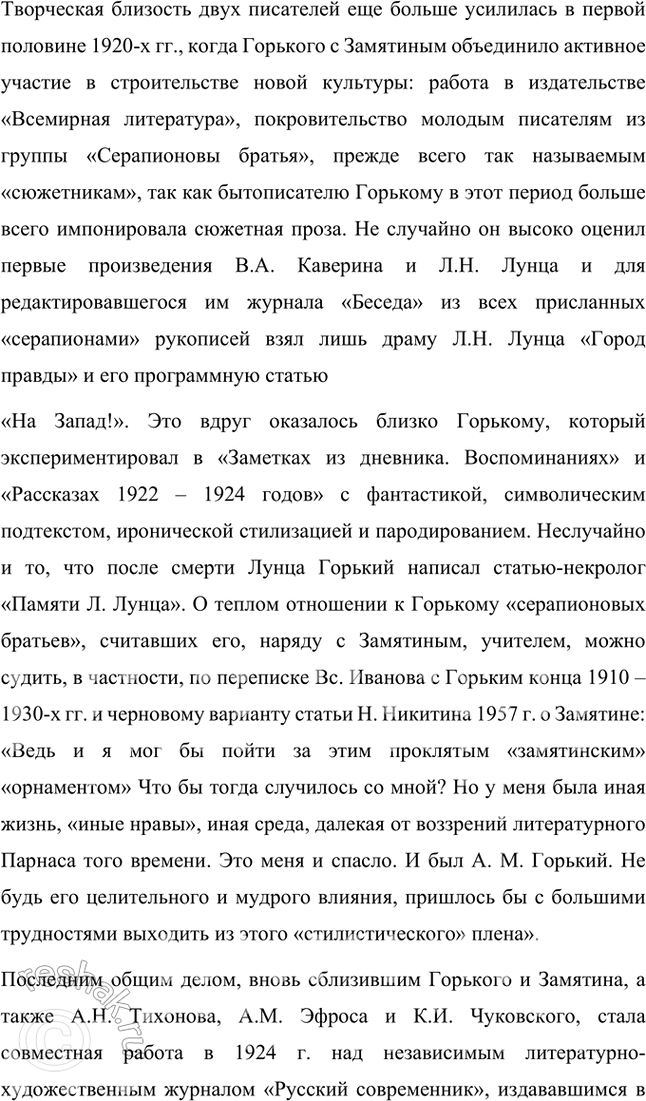
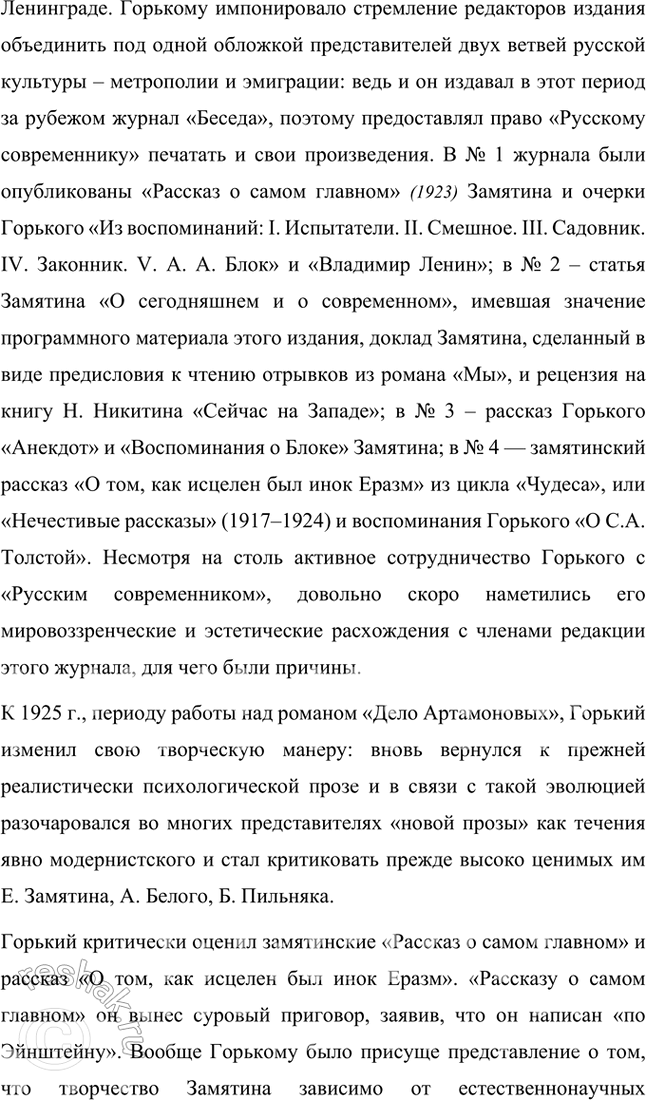
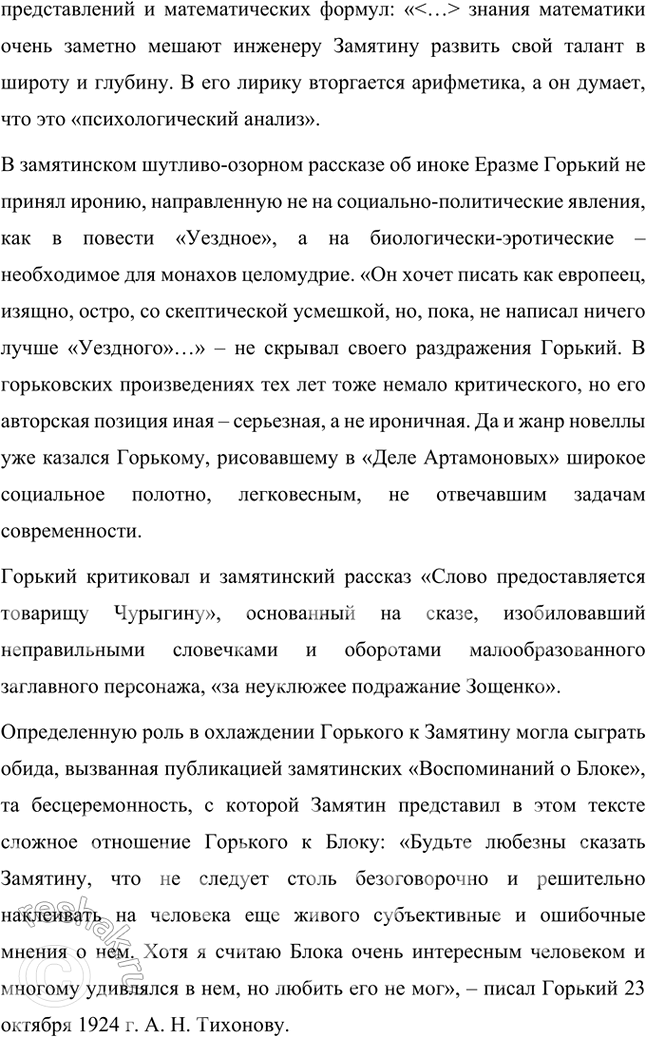
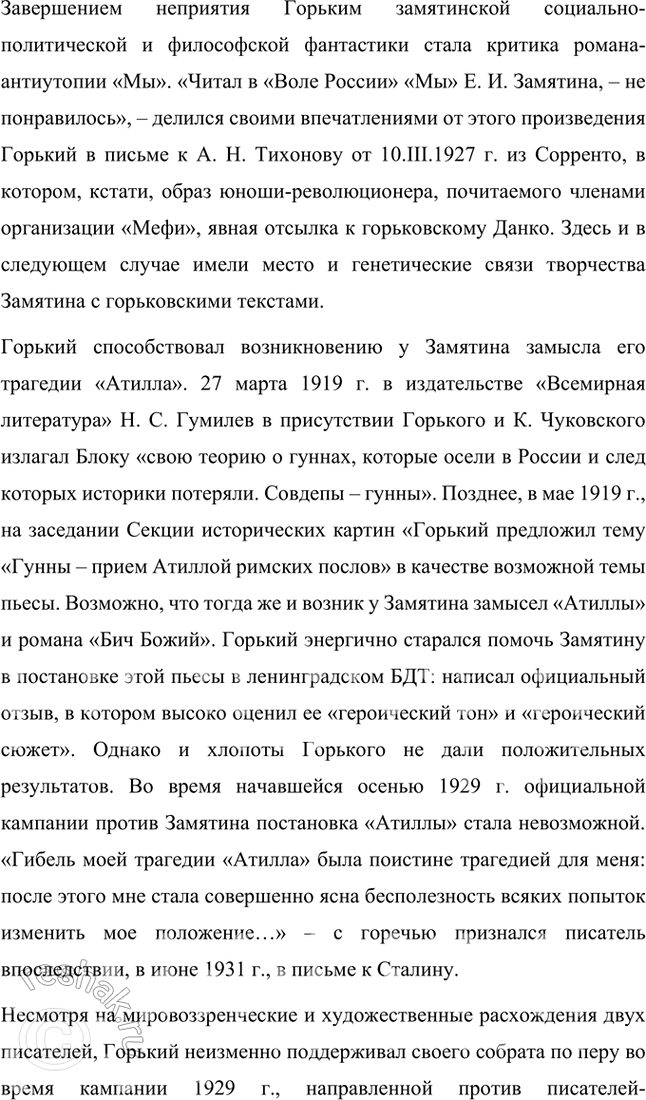
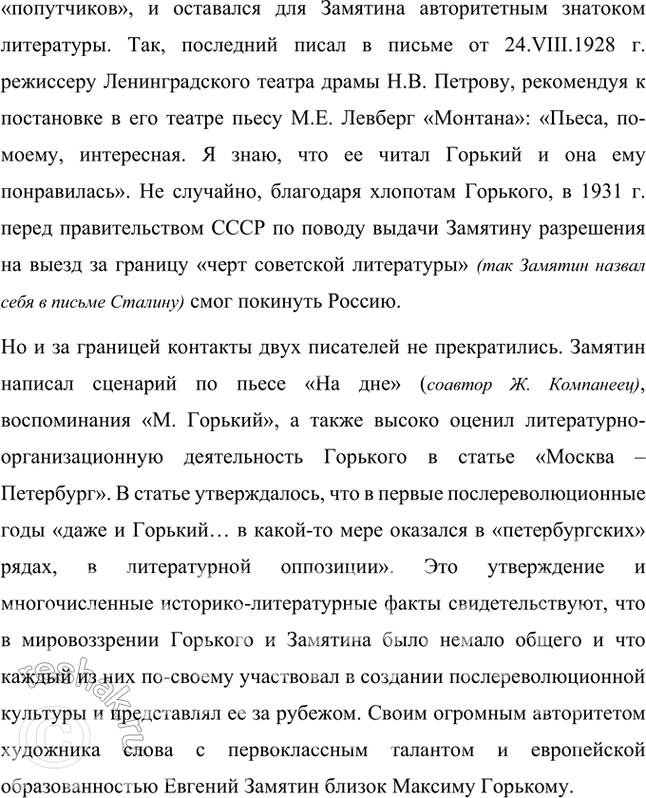
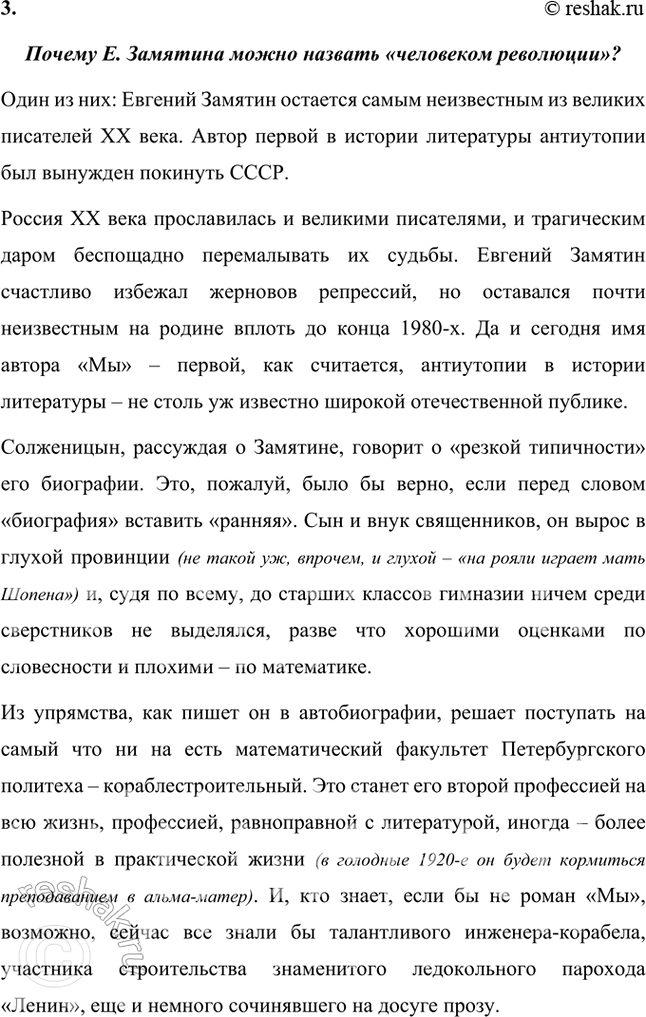
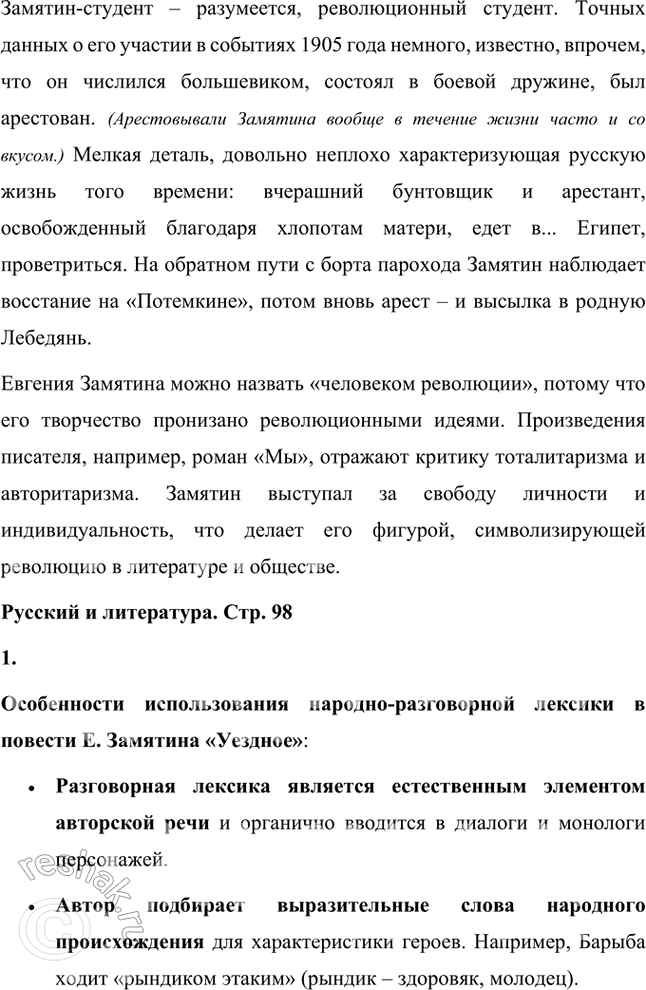
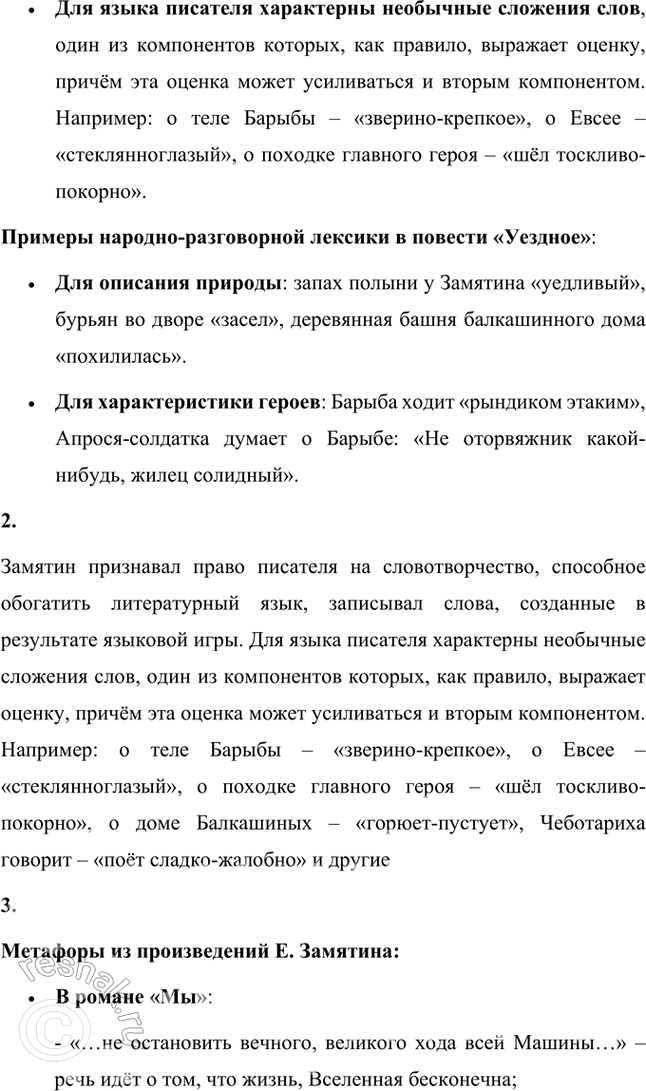
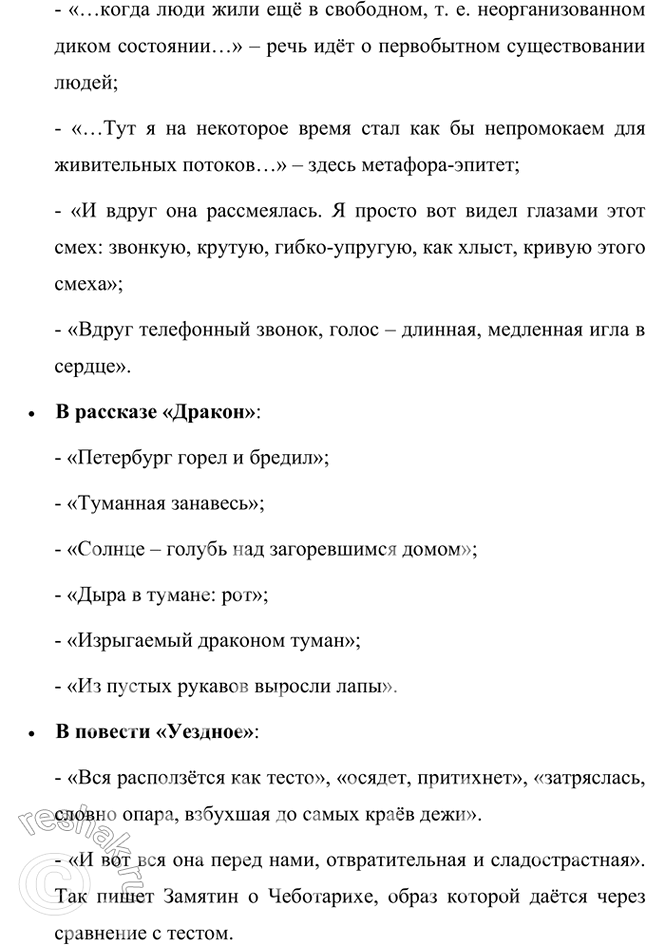

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Гальцова 11 класс, Просвещение:
Темы рефератов
• Е. Замятин и М. Горький. История одной литературной дружбы.
Как известно, между деятелями одной и той же национальной литературы и писателями-современниками могут существовать контактные, сравнительно-типологические и генетические литературные связи. Между творчеством М. Горького и Е. Замятина существовали все три типа литературных связей.
Во-первых, Горький – знакомый и адресат Замятина, писатели часто встречались, относясь к одной и той же литературной среде послереволюционного Петрограда.
Во-вторых, творчество Горького 1900-х гг. близко замятинскому воссозданным в нем жизненным материалом и авторской оценкой, в чем обнаруживаются сравнительно-типологические схождения. В прозе этих прозаиков 1900-х гг. происходит расширение жизненного материала: географическое и социальное. Горький приглашает постранствовать вместе с ним «по Руси», Замятин художественно воссоздает жизнь русского «уездного» (повести «Уездное», «Алатырь»; рассказы «Чрево», «Кряжи», «Африка») и окраин — Дальнего Востока (повесть «На куличках»), Севера (повесть «Север») и, подобно Горькому, знакомит читателей с массовой Россией, с теми ее слоями, которые до тех пор не были предметом пристального изображения писателей-классиков XIX в. У Замятина это будни уездного мещанства и провинциального армейского гарнизона, посадских жителей, крестьян; у Горького – жизнь городского мещанства и бедноты, крестьянства и интеллигенции. При этом оба прозаика старались выявить общие закономерности русской действительности в широком обобщении с элементами символизации. Емкими символами всей России становились у Горького и Замятина русская провинция с ее косностью и еще не пробудившимися народными силами.
Существование бездуховной, сонной русской провинции изобразили Горький в «окуровском цикле» («Городок Окуров», 1909, «Жизнь Матвея Кожемякина», 1910), Замятин – в триаде произведений: повестях «Уездное», «На куличках» и «Алатырь». В некотором отношении близко и воссоздание монастырского быта в антицерковной повести Горького «Исповедь» (1908) и замятинских повести «Уездное» (1912) и рассказе «Знамение» (1918). Горький и Замятин в дореволюционной прозе создали и похожие типы героев – богоискателей, революционеров, неверующих и развращенных монахов, грешников, делающих карьеру ценой множества прегрешений.
Герои-монахи из «Уездного» и «Знамения», как и горьковские персонажи отец Исаия из «Городка Окурова», протопоп, мать Феврония и игумен Савватеевской пустыни из повести «Исповедь», не способны быть образцами духовности и нравственности для общества, на что указывает и символическое название одной из глав «Уездного» – «Сумерки в келье». Поэтому ключом к их образам является в этой повести прежде всего быт.
Главный герой «Уездного» Анфим Барыба, ложным доносом обрекший на смерть друга, напоминает Вавилу Бурмистрова из «Городка Окурова». Вавило дважды предал «кривого смутьяна» Тиунова, а также слободскую среду, к которой он принадлежал, и переметнулся во время революции 1905 г. на сторону обывателей-горожан. Но Вавило, способный раскаиваться в грехе и искренне любить, все же человечнее великого грешника Барыбы. Образ Тимоши из «Уездного», связанный с нравственно-философской (человек и Бог) и социально-политической (революция 1905 года) проблемами, по своему социально-интеллектуальному типу напоминает горьковских богоискателя Матвея и Тиунова из повестей «Исповедь» и «Городок Окуров». Готовностью участвовать в революции 1905-го Тимоша также похож на горьковского Матвея, который нашел в конце своих странствий по Руси правду в учении революционеров-«богостроителей» с Исетского завода. И все же у Замятина, как и у Горького в «Городке Окурове», революция не изображена: у первого показана мечта о ней (Тимоша – потенциальный участник революционных событий), у второго – анархический бунт. Созвучны в философском отношении размышления Горького и Замятина о «русской душе» (дореволюционная повесть «На куличках»). Поэтика дореволюционной прозы Горького и Замятина близка ориентацией на традиции русской реалистической сатирической прозы XIX столетия, прежде всего на произведения Н. В. Гоголя.
Сюжет «Уездного», структурно аморфный, как и сюжеты «окуровской дилогии», напоминает действие повестей Гоголя.
Замятин часто прибегает к напоминающим поэтику «Мертвых душ» снижающим сравнениям человека с животным. Есть такие сравнения и у Горького, который сравнивает «робкие глаза» окуровского поэта Симы Девушкина с глазами овцы, стройное тело Бурмистрова со звериным телом, его речь со звериным воем. Глаза Вавилы в те дни, когда он озорничал, смотрели «на все злобно, с тупой животной тоской», в дни революции 1905 года растерявшиеся обыватели напоминают «стадо овец, потерявшее козла-вожатого», верша расправу над Вавилой, они терзают его, «точно псы отсталого волка < … > »3. В «Уездном» Анфим Барыба сопоставляется с курицей, волком, тараканом, бараном и – обобщенно, без конкретизации – со зверем. Художественный эффект от сравнения с бараном, открывающего описание Барыбы в сцене ограбления чуриловского трактира, усиливается указанием на присущее герою антижития звериное «чутье», и все это перерастает в конце описания в обобщенный образ Анфима-зверя. Подобные тропы раскрывают его тупость и развитое в нем животное начало и, главное, почти полное отсутствие у него души и совести. А раз у героя повести- антижития почти нет души, то почти нет в ней и Бога. Снижающие сравнения и метафоры Замятин использует и при создании образов представителей уездного духовенства, с присущими ему, по мысли писателя, бездуховностью, необразованностью, безнравственностью. Тем самым создается групповой сатирический портрет. Подобные сравнения у Горького, как и у Замятина, являются характерообразующими.
Вместе с тем поэтика трех дореволюционных повестей Замятина и отличается от художественных принципов реалистической нравоописательной повести, тех же «Городка Окурова» и «Жизни Матвея Кожемякина». Благодаря урокам А. П. Чехова, Замятин стал широко пользоваться намеками и подтекстом, в его произведениях появилась импрессионистическая атмосфера.
Тем не менее, Горький был в восторге от «Уездного». Он советовал в июле 1917 г. Е. П. Пешковой: «Прочитай «Уездное» Замятина, получишь удовольствие» – и даже сравнил его со своей повестью: «Этот «Городок Окуров» – вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим преобладанием содержания над формой». Повесть Замятина так и осталась в его творчестве, по мысли Горького, высказанной им много лет спустя, непревзойденным шедевром5.
Признание самобытности ранней прозы Замятина Горьким проявилось и в том, что он публиковал замятинские произведения в издававшейся им периодике: в журнале «Летопись» (№ 4 за 1916 г.) он опубликовал подборку сказок «Бог», «Дьячок», «Петька» (впоследствии заглавие изменено на «Дрянь-мальчишка»), в газете «Новая жизнь» – политическую сказку «Глаза» (1918. 10 марта (№ 39). С. 2). При содействии Горького в руководимом им издательстве З. И. Гржебина в 1921 – 1922 гг. было выпущено Собрание сочинений Замятина в трех томах6.
Творческая близость двух писателей еще больше усилилась в первой половине 1920-х гг., когда Горького с Замятиным объединило активное участие в строительстве новой культуры: работа в издательстве «Всемирная литература», покровительство молодым писателям из группы «Серапионовы братья», прежде всего так называемым «сюжетникам», так как бытописателю Горькому в этот период больше всего импонировала сюжетная проза. Не случайно он высоко оценил первые произведения В.А. Каверина и Л.Н. Лунца и для редактировавшегося им журнала «Беседа» из всех присланных «серапионами» рукописей взял лишь драму Л.Н. Лунца «Город правды» и его программную статью
«На Запад!». Это вдруг оказалось близко Горькому, который экспериментировал в «Заметках из дневника. Воспоминаниях» и «Рассказах 1922 – 1924 годов» с фантастикой, символическим подтекстом, иронической стилизацией и пародированием. Неслучайно и то, что после смерти Лунца Горький написал статью-некролог «Памяти Л. Лунца». О теплом отношении к Горькому «серапионовых братьев», считавших его, наряду с Замятиным, учителем, можно судить, в частности, по переписке Вс. Иванова с Горьким конца 1910 – 1930-х гг. и черновому варианту статьи Н. Никитина 1957 г. о Замятине: «Ведь и я мог бы пойти за этим проклятым «замятинским» «орнаментом» Что бы тогда случилось со мной? Но у меня была иная жизнь, «иные нравы», иная среда, далекая от воззрений литературного Парнаса того времени. Это меня и спасло. И был А. М. Горький. Не будь его целительного и мудрого влияния, пришлось бы с большими трудностями выходить из этого «стилистического» плена».
Последним общим делом, вновь сблизившим Горького и Замятина, а также А.Н. Тихонова, А.М. Эфроса и К.И. Чуковского, стала совместная работа в 1924 г. над независимым литературно-художественным журналом «Русский современник», издававшимся в Ленинграде. Горькому импонировало стремление редакторов издания объединить под одной обложкой представителей двух ветвей русской культуры – метрополии и эмиграции: ведь и он издавал в этот период за рубежом журнал «Беседа», поэтому предоставлял право «Русскому современнику» печатать и свои произведения. В № 1 журнала были опубликованы «Рассказ о самом главном» (1923) Замятина и очерки Горького «Из воспоминаний: I. Испытатели. II. Смешное. III. Садовник. IV. Законник. V. А. А. Блок» и «Владимир Ленин»; в № 2 – статья Замятина «О сегодняшнем и о современном», имевшая значение программного материала этого издания, доклад Замятина, сделанный в виде предисловия к чтению отрывков из романа «Мы», и рецензия на книгу Н. Никитина «Сейчас на Западе»; в № 3 – рассказ Горького «Анекдот» и «Воспоминания о Блоке» Замятина; в № 4 — замятинский рассказ «О том, как исцелен был инок Еразм» из цикла «Чудеса», или «Нечестивые рассказы» (1917–1924) и воспоминания Горького «О С.А. Толстой». Несмотря на столь активное сотрудничество Горького с «Русским современником», довольно скоро наметились его мировоззренческие и эстетические расхождения с членами редакции этого журнала, для чего были причины.
К 1925 г., периоду работы над романом «Дело Артамоновых», Горький изменил свою творческую манеру: вновь вернулся к прежней реалистически психологической прозе и в связи с такой эволюцией разочаровался во многих представителях «новой прозы» как течения явно модернистского и стал критиковать прежде высоко ценимых им Е. Замятина, А. Белого, Б. Пильняка.
Горький критически оценил замятинские «Рассказ о самом главном» и рассказ «О том, как исцелен был инок Еразм». «Рассказу о самом главном» он вынес суровый приговор, заявив, что он написан «по Эйнштейну». Вообще Горькому было присуще представление о том, что творчество Замятина зависимо от естественнонаучных представлений и математических формул: « < … > знания математики очень заметно мешают инженеру Замятину развить свой талант в широту и глубину. В его лирику вторгается арифметика, а он думает, что это «психологический анализ».
В замятинском шутливо-озорном рассказе об иноке Еразме Горький не принял иронию, направленную не на социально-политические явления, как в повести «Уездное», а на биологически-эротические – необходимое для монахов целомудрие. «Он хочет писать как европеец, изящно, остро, со скептической усмешкой, но, пока, не написал ничего лучше «Уездного»…» – не скрывал своего раздражения Горький. В горьковских произведениях тех лет тоже немало критического, но его авторская позиция иная – серьезная, а не ироничная. Да и жанр новеллы уже казался Горькому, рисовавшему в «Деле Артамоновых» широкое социальное полотно, легковесным, не отвечавшим задачам современности.
Горький критиковал и замятинский рассказ «Слово предоставляется товарищу Чурыгину», основанный на сказе, изобиловавший неправильными словечками и оборотами малообразованного заглавного персонажа, «за неуклюжее подражание Зощенко».
Определенную роль в охлаждении Горького к Замятину могла сыграть обида, вызванная публикацией замятинских «Воспоминаний о Блоке», та бесцеремонность, с которой Замятин представил в этом тексте сложное отношение Горького к Блоку: «Будьте любезны сказать Замятину, что не следует столь безоговорочно и решительно наклеивать на человека еще живого субъективные и ошибочные мнения о нем. Хотя я считаю Блока очень интересным человеком и многому удивлялся в нем, но любить его не мог», – писал Горький 23 октября 1924 г. А. Н. Тихонову.
Завершением неприятия Горьким замятинской социально-политической и философской фантастики стала критика романа-антиутопии «Мы». «Читал в «Воле России» «Мы» Е. И. Замятина, – не понравилось», – делился своими впечатлениями от этого произведения Горький в письме к А. Н. Тихонову от 10.III.1927 г. из Сорренто, в котором, кстати, образ юноши-революционера, почитаемого членами организации «Мефи», явная отсылка к горьковскому Данко. Здесь и в следующем случае имели место и генетические связи творчества Замятина с горьковскими текстами.
Горький способствовал возникновению у Замятина замысла его трагедии «Атилла». 27 марта 1919 г. в издательстве «Всемирная литература» Н. С. Гумилев в присутствии Горького и К. Чуковского излагал Блоку «свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы – гунны». Позднее, в мае 1919 г., на заседании Секции исторических картин «Горький предложил тему «Гунны – прием Атиллой римских послов» в качестве возможной темы пьесы. Возможно, что тогда же и возник у Замятина замысел «Атиллы» и романа «Бич Божий». Горький энергично старался помочь Замятину в постановке этой пьесы в ленинградском БДТ: написал официальный отзыв, в котором высоко оценил ее «героический тон» и «героический сюжет». Однако и хлопоты Горького не дали положительных результатов. Во время начавшейся осенью 1929 г. официальной кампании против Замятина постановка «Атиллы» стала невозможной. «Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение…» – с горечью признался писатель впоследствии, в июне 1931 г., в письме к Сталину.
Несмотря на мировоззренческие и художественные расхождения двух писателей, Горький неизменно поддерживал своего собрата по перу во время кампании 1929 г., направленной против писателей-«попутчиков», и оставался для Замятина авторитетным знатоком литературы. Так, последний писал в письме от 24.VIII.1928 г. режиссеру Ленинградского театра драмы Н.В. Петрову, рекомендуя к постановке в его театре пьесу М.Е. Левберг «Монтана»: «Пьеса, по-моему, интересная. Я знаю, что ее читал Горький и она ему понравилась». Не случайно, благодаря хлопотам Горького, в 1931 г. перед правительством СССР по поводу выдачи Замятину разрешения на выезд за границу «черт советской литературы» (так Замятин назвал себя в письме Сталину) смог покинуть Россию.
Но и за границей контакты двух писателей не прекратились. Замятин написал сценарий по пьесе «На дне» (соавтор Ж. Компанеец), воспоминания «М. Горький», а также высоко оценил литературно-организационную деятельность Горького в статье «Москва – Петербург». В статье утверждалось, что в первые послереволюционные годы «даже и Горький… в какой-то мере оказался в «петербургских» рядах, в литературной оппозиции». Это утверждение и многочисленные историко-литературные факты свидетельствуют, что в мировоззрении Горького и Замятина было немало общего и что каждый из них по-своему участвовал в создании послереволюционной культуры и представлял ее за рубежом. Своим огромным авторитетом художника слова с первоклассным талантом и европейской образованностью Евгений Замятин близок Максиму Горькому.
• Почему Е. Замятина можно назвать «человеком революции»?
Используйте для ответа на вопрос найденные вами с помощью учителя и Интернета автобиографические и биографические источники.
Один из них: Евгений Замятин остается самым неизвестным из великих писателей ХХ века. Автор первой в истории литературы антиутопии был вынужден покинуть СССР.
Россия ХХ века прославилась и великими писателями, и трагическим даром беспощадно перемалывать их судьбы. Евгений Замятин счастливо избежал жерновов репрессий, но оставался почти неизвестным на родине вплоть до конца 1980-х. Да и сегодня имя автора «Мы» – первой, как считается, антиутопии в истории литературы – не столь уж известно широкой отечественной публике.
Солженицын, рассуждая о Замятине, говорит о «резкой типичности» его биографии. Это, пожалуй, было бы верно, если перед словом «биография» вставить «ранняя». Сын и внук священников, он вырос в глухой провинции (не такой уж, впрочем, и глухой – «на рояли играет мать Шопена») и, судя по всему, до старших классов гимназии ничем среди сверстников не выделялся, разве что хорошими оценками по словесности и плохими – по математике.
Из упрямства, как пишет он в автобиографии, решает поступать на самый что ни на есть математический факультет Петербургского политеха – кораблестроительный. Это станет его второй профессией на всю жизнь, профессией, равноправной с литературой, иногда – более полезной в практической жизни (в голодные 1920-е он будет кормиться преподаванием в альма-матер). И, кто знает, если бы не роман «Мы», возможно, сейчас все знали бы талантливого инженера-корабела, участника строительства знаменитого ледокольного парохода «Ленин», еще и немного сочинявшего на досуге прозу.
Замятин-студент – разумеется, революционный студент. Точных данных о его участии в событиях 1905 года немного, известно, впрочем, что он числился большевиком, состоял в боевой дружине, был арестован. (Арестовывали Замятина вообще в течение жизни часто и со вкусом.) Мелкая деталь, довольно неплохо характеризующая русскую жизнь того времени: вчерашний бунтовщик и арестант, освобожденный благодаря хлопотам матери, едет в... Египет, проветриться. На обратном пути с борта парохода Замятин наблюдает восстание на «Потемкине», потом вновь арест – и высылка в родную Лебедянь.
Евгения Замятина можно назвать «человеком революции», потому что его творчество пронизано революционными идеями. Произведения писателя, например, роман «Мы», отражают критику тоталитаризма и авторитаризма. Замятин выступал за свободу личности и индивидуальность, что делает его фигурой, символизирующей революцию в литературе и обществе.
Русский язык и литература
1. Рассмотрите особенности использования народно-разговорной лексики в повести Е. Замятина «Уездное». В подготовке задания используйте «Толковый словарь живою великорусского языка» В. Даля.
Особенности использования народно-разговорной лексики в повести Е. Замятина «Уездное»:
• Разговорная лексика является естественным элементом авторской речи и органично вводится в диалоги и монологи персонажей.
• Автор подбирает выразительные слова народного происхождения для характеристики героев. Например, Барыба ходит «рындиком этаким» (рындик – здоровяк, молодец).
• Для языка писателя характерны необычные сложения слов, один из компонентов которых, как правило, выражает оценку, причём эта оценка может усиливаться и вторым компонентом. Например: о теле Барыбы – «зверино-крепкое», о Евсее – «стеклянноглазый», о походке главного героя – «шёл тоскливо-покорно».
Примеры народно-разговорной лексики в повести «Уездное»:
• Для описания природы: запах полыни у Замятина «уедливый», бурьян во дворе «засел», деревянная башня балкашинного дома «похилилась».
• Для характеристики героев: Барыба ходит «рындиком этаким», Апрося-солдатка думает о Барыбе: «Не оторвяжник какой-нибудь, жилец солидный».
2. Приведите примеры «языковой игры» в произведениях Е. Замятина.
Замятин признавал право писателя на словотворчество, способное обогатить литературный язык, записывал слова, созданные в результате языковой игры. Для языка писателя характерны необычные сложения слов, один из компонентов которых, как правило, выражает оценку, причём эта оценка может усиливаться и вторым компонентом. Например: о теле Барыбы – «зверино-крепкое», о Евсее – «стеклянноглазый», о походке главного героя – «шёл тоскливо-покорно», о доме Балкашиных – «горюет-пустует», Чеботариха говорит – «поёт сладко-жалобно» и другие
3. Составьте словарь метафор Е. Замятина, опираясь на прочитанные произведения писателя.
Метафоры из произведений Е. Замятина:
• В романе «Мы»:
- «…не остановить вечного, великого хода всей Машины…» – речь идёт о том, что жизнь, Вселенная бесконечна;
- «…когда люди жили ещё в свободном, т. е. неорганизованном диком состоянии…» – речь идёт о первобытном существовании людей;
- «…Тут я на некоторое время стал как бы непромокаем для живительных потоков…» – здесь метафора-эпитет;
- «И вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха»;
- «Вдруг телефонный звонок, голос – длинная, медленная игла в сердце».
• В рассказе «Дракон»:
- «Петербург горел и бредил»;
- «Туманная занавесь»;
- «Солнце – голубь над загоревшимся домом»;
- «Дыра в тумане: рот»;
- «Изрыгаемый драконом туман»;
- «Из пустых рукавов выросли лапы».
• В повести «Уездное»:
- «Вся расползётся как тесто», «осядет, притихнет», «затряслась, словно опара, взбухшая до самых краёв дежи».
- «И вот вся она перед нами, отвратительная и сладострастная». Так пишет Замятин о Чеботарихе, образ которой даётся через сравнение с тестом.
Популярные решебники 11 класс Все решебники
*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением





