Ответы на вопросы на стр.17 Часть 2 ГДЗ Коровин 10 класс (Литература)
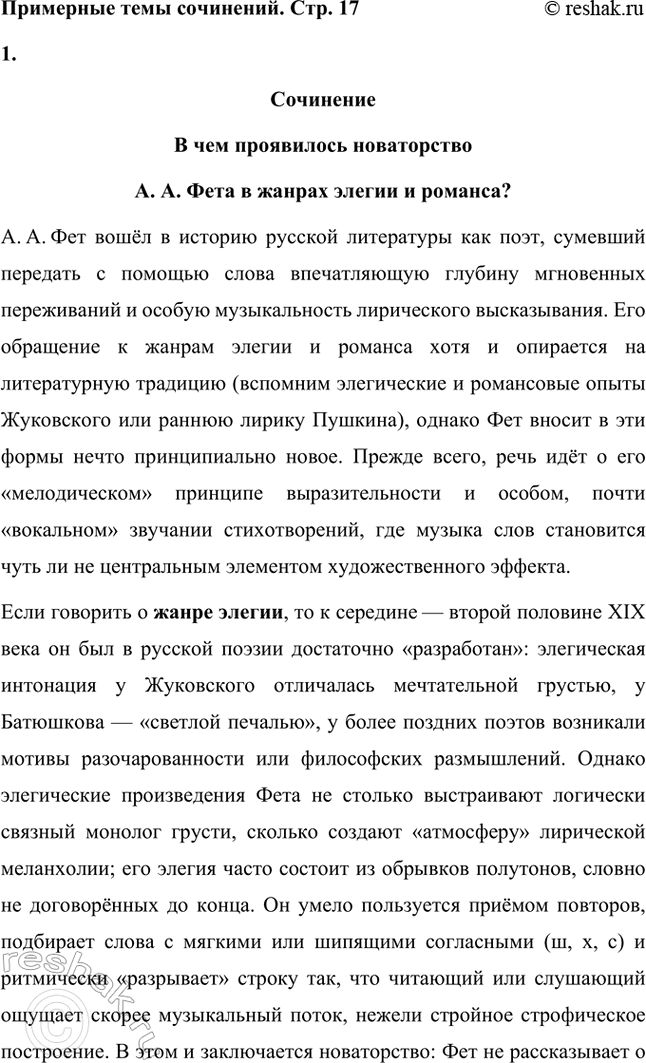
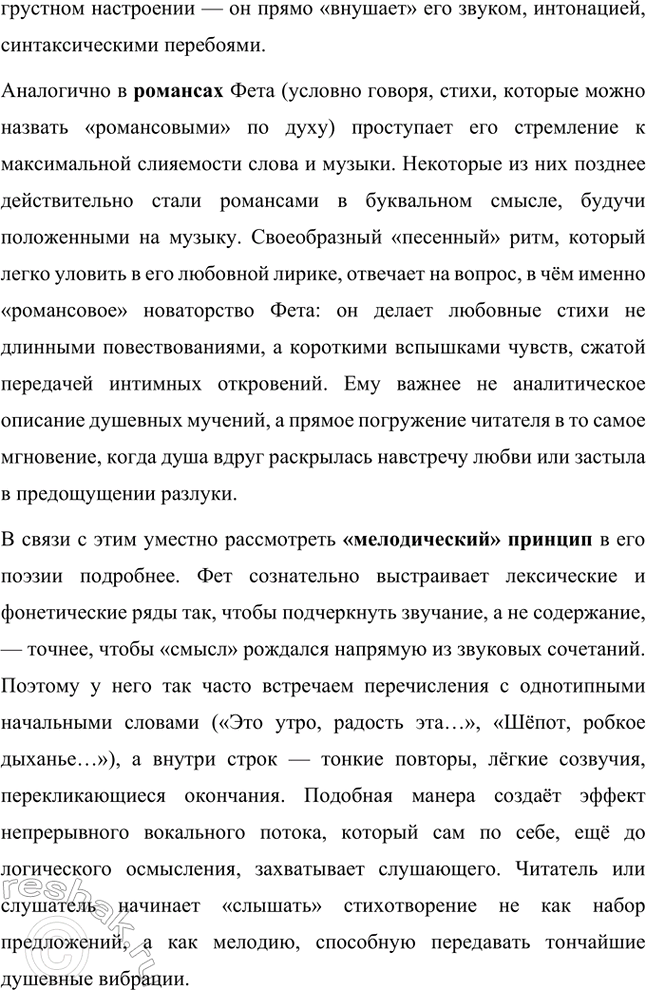
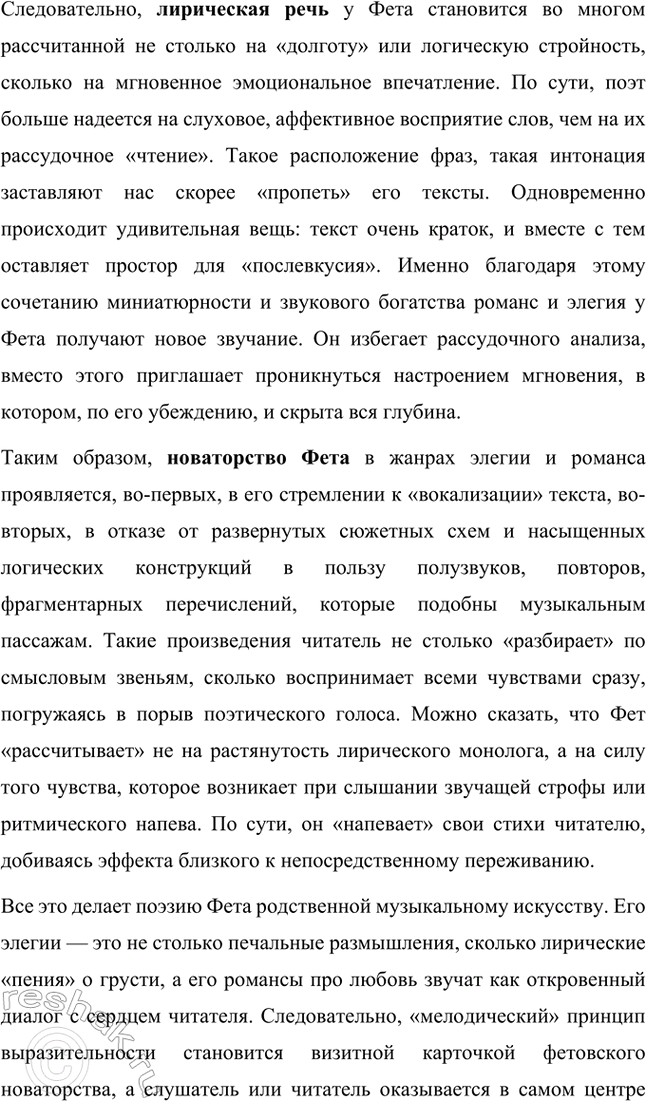
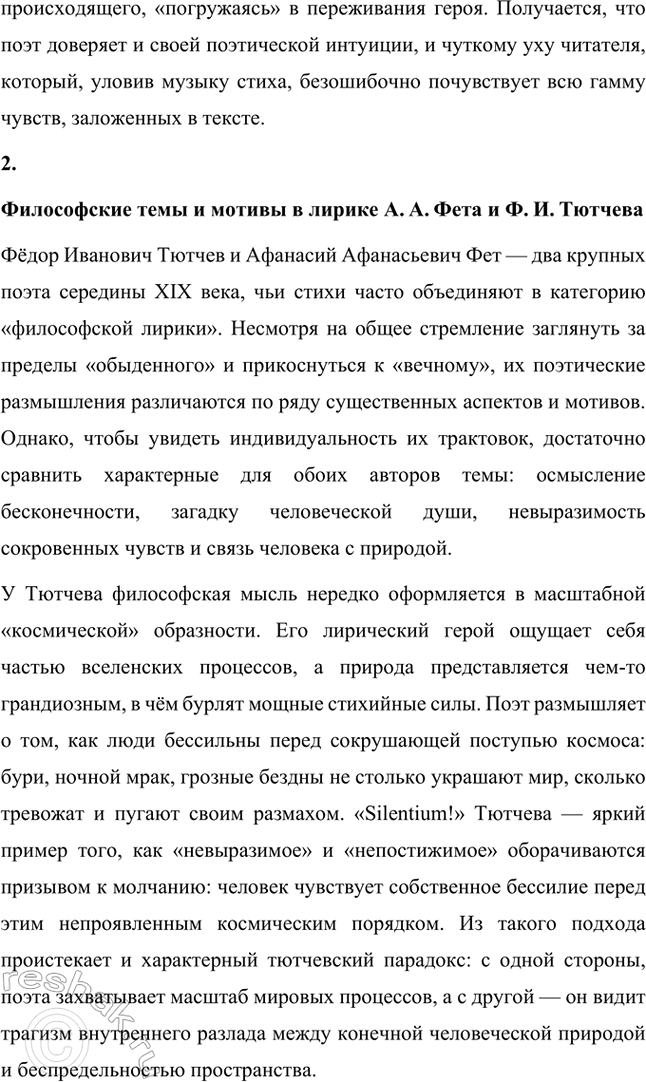
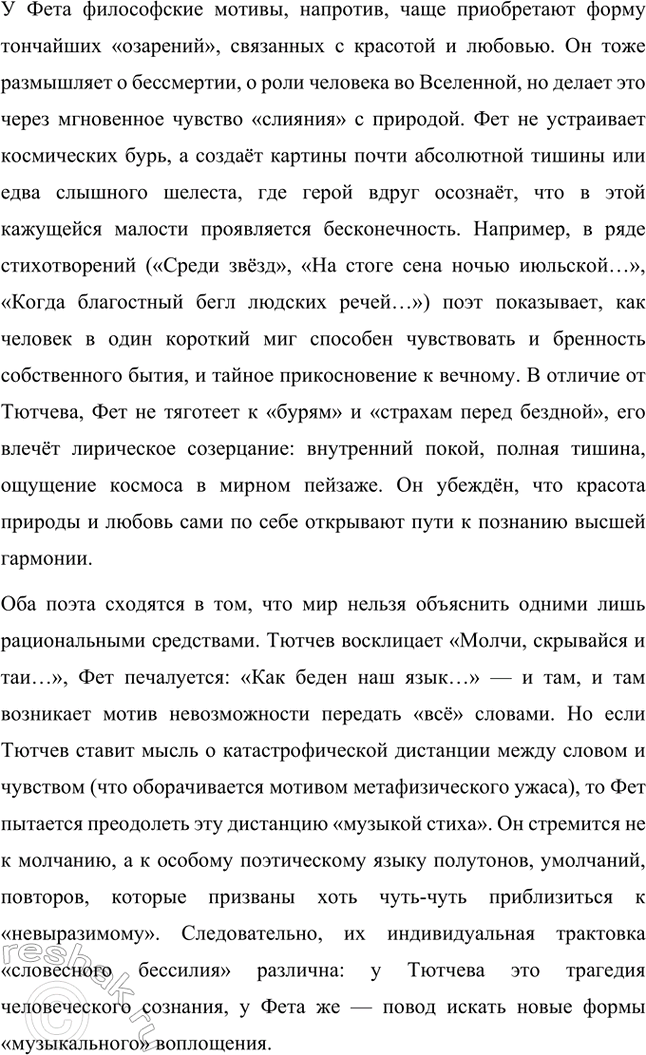
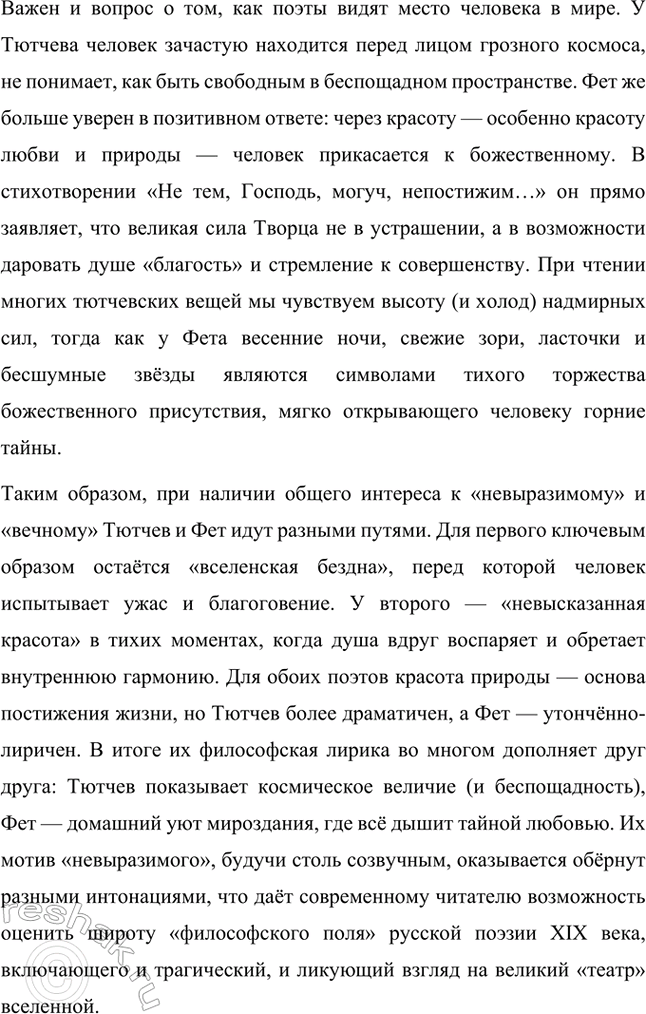
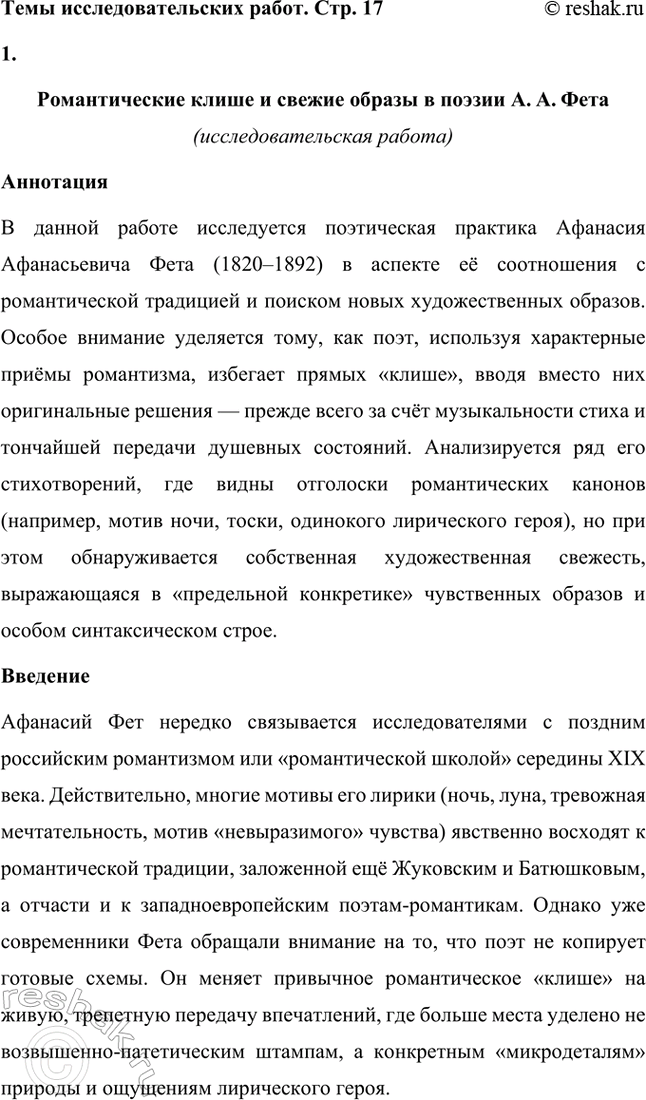
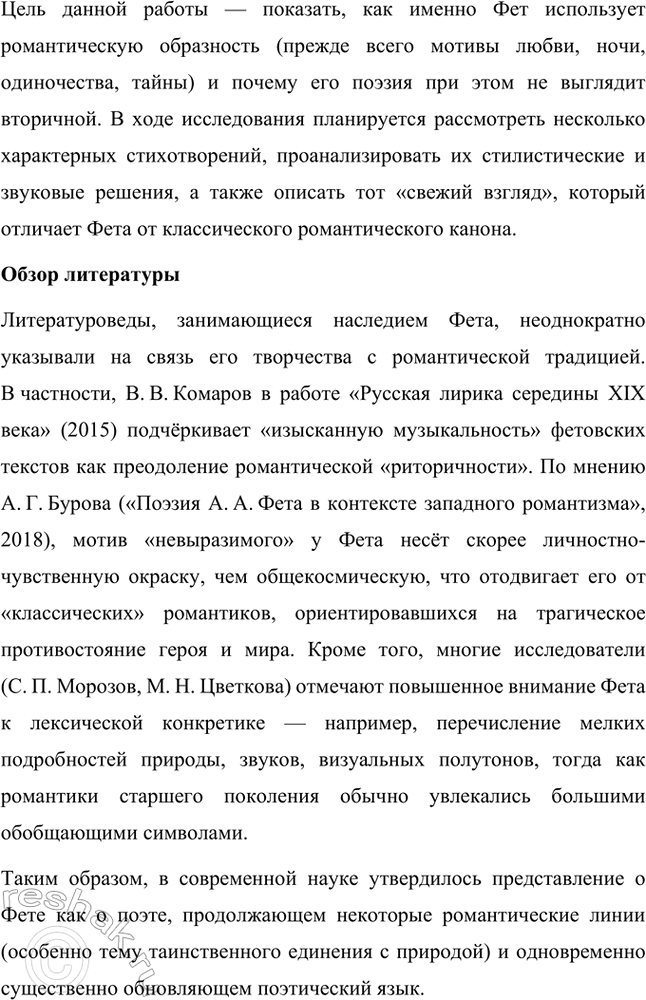
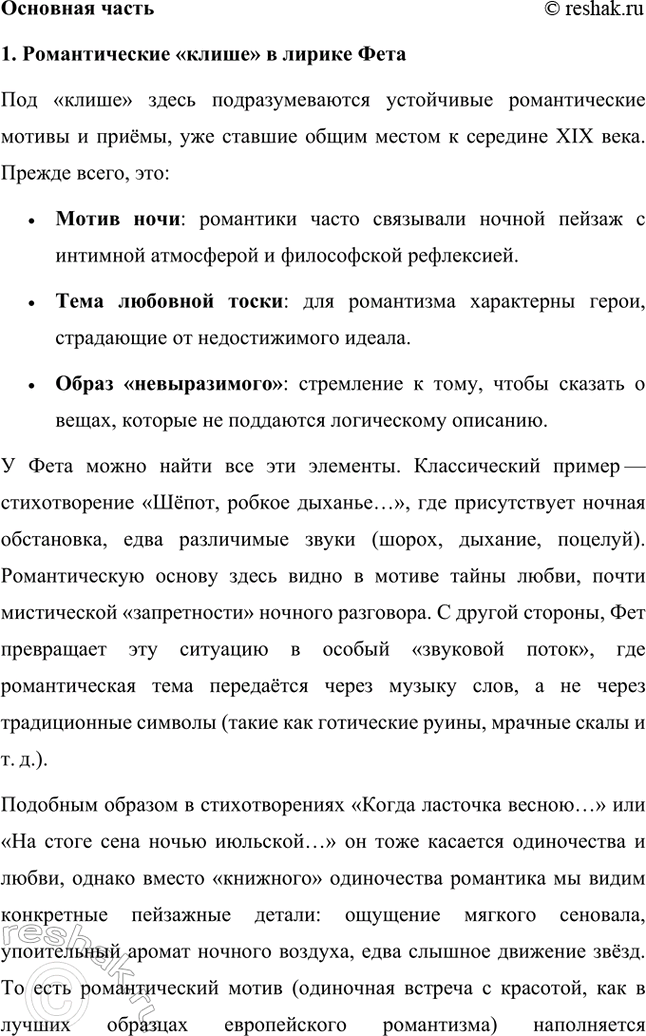
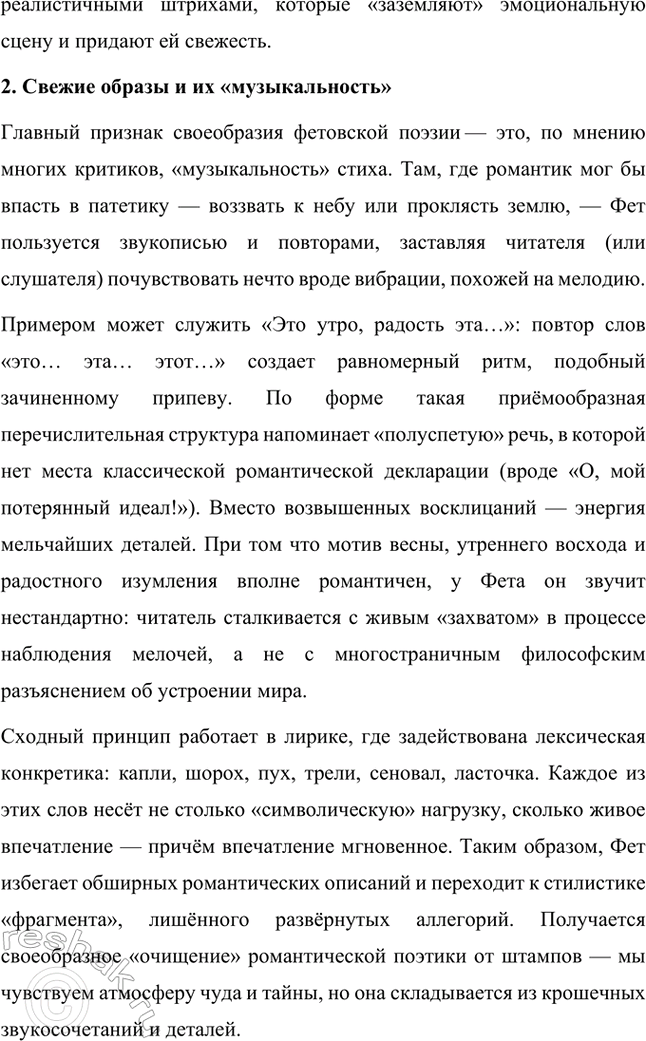
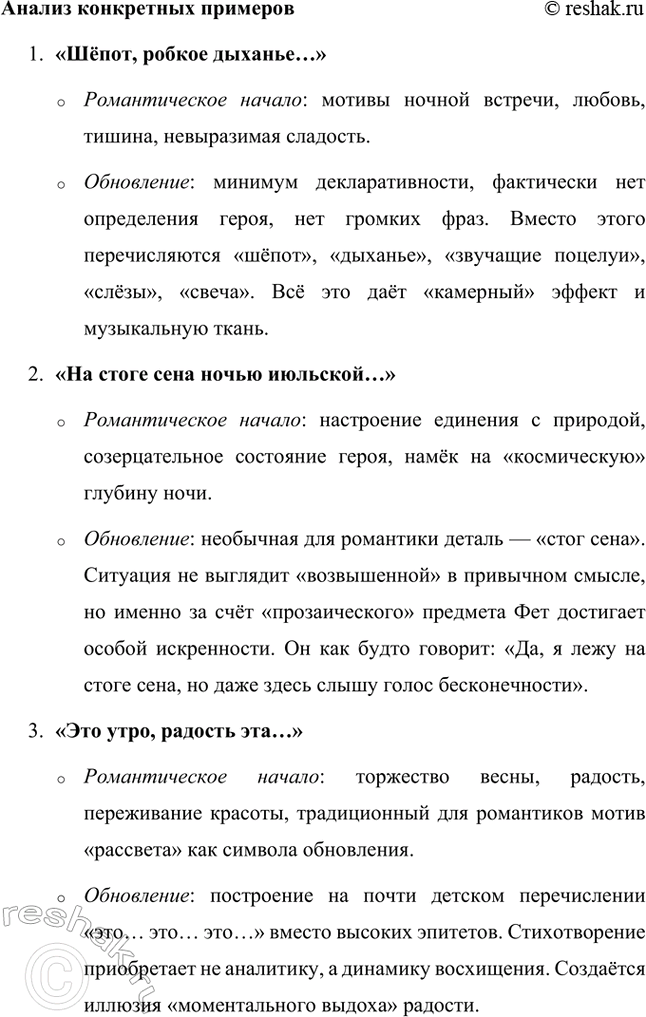
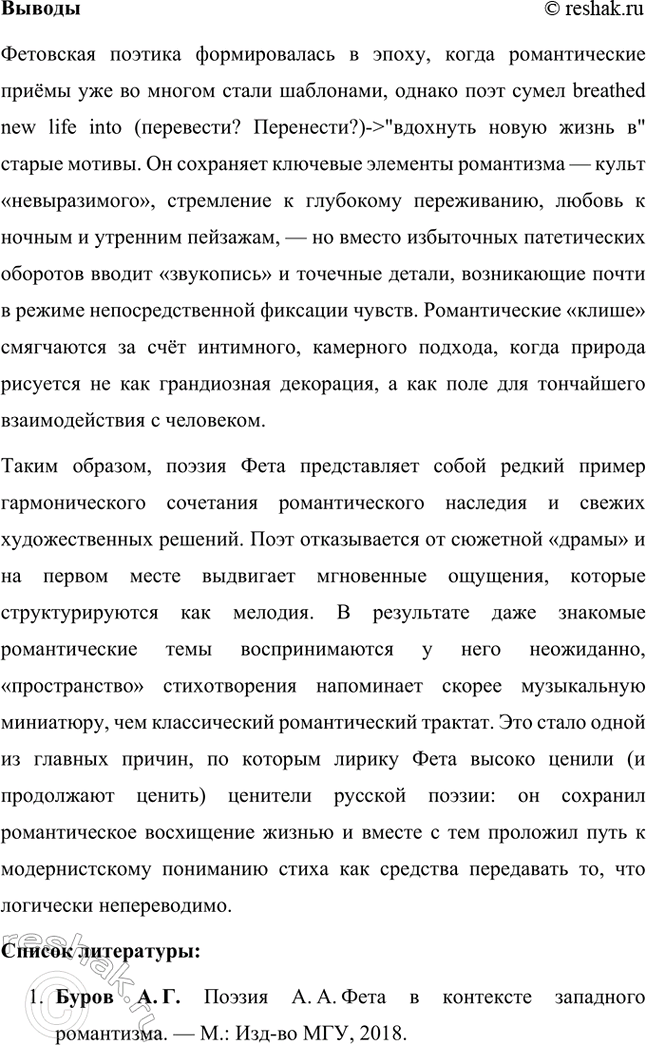
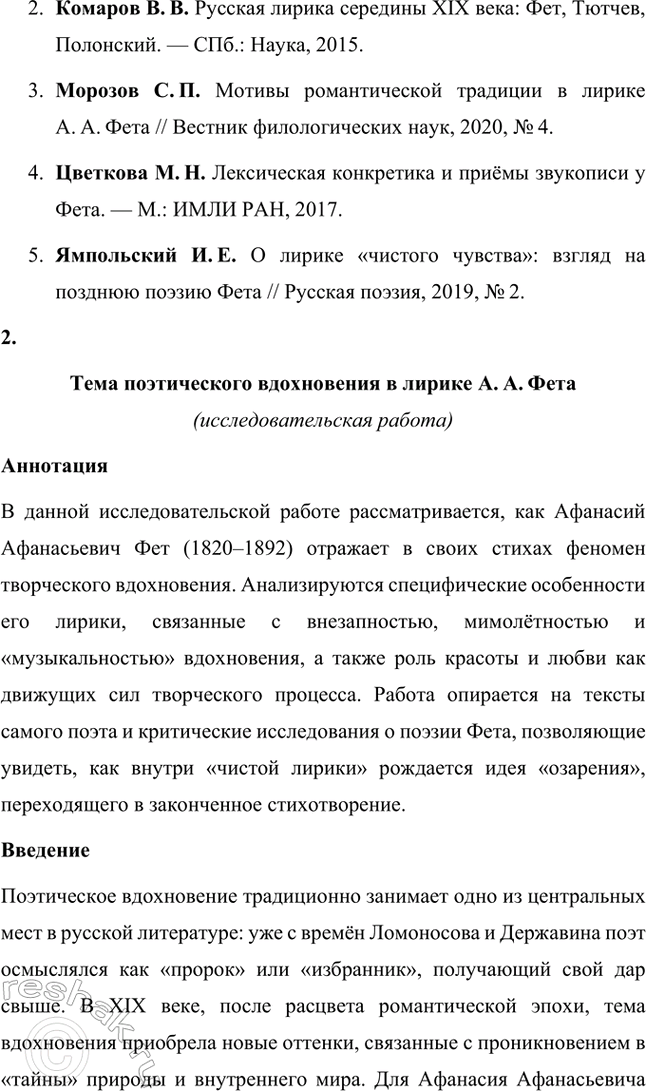
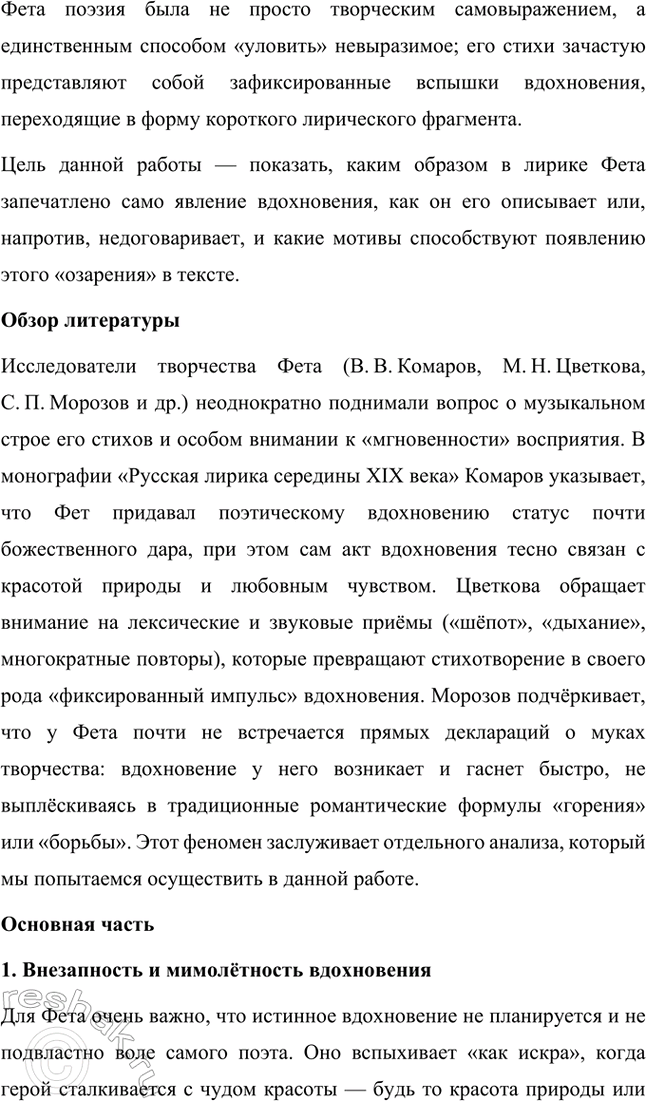
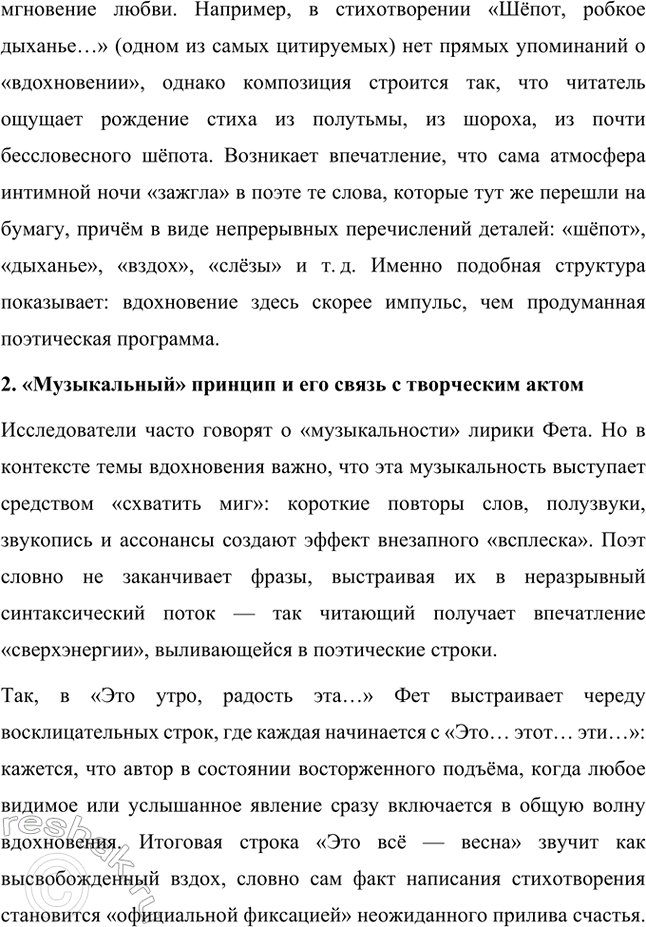
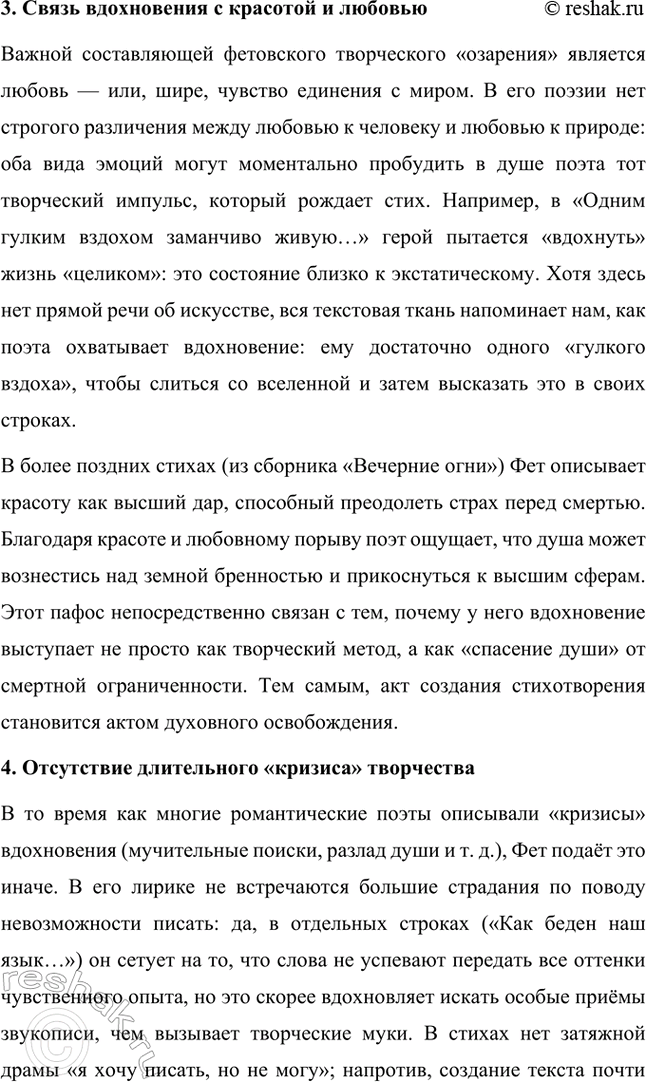
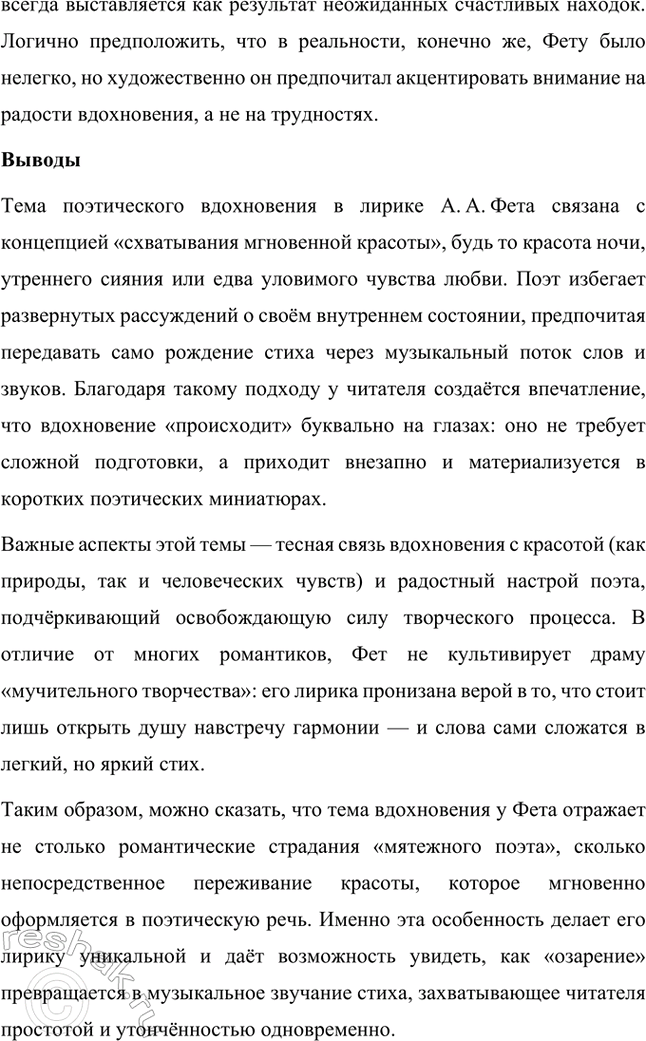
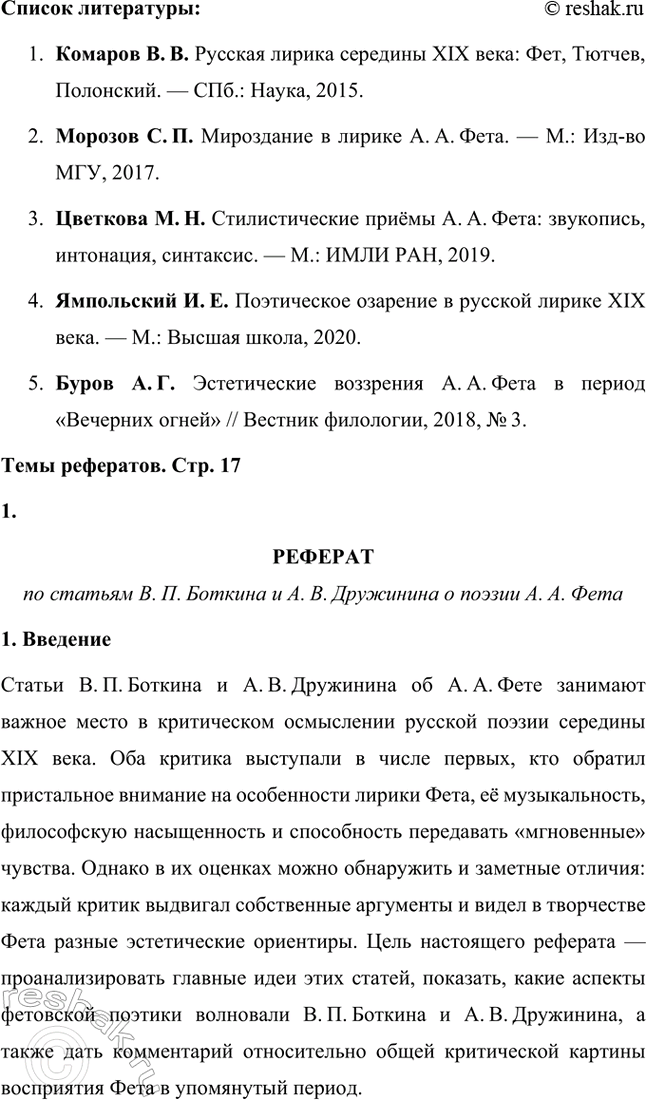
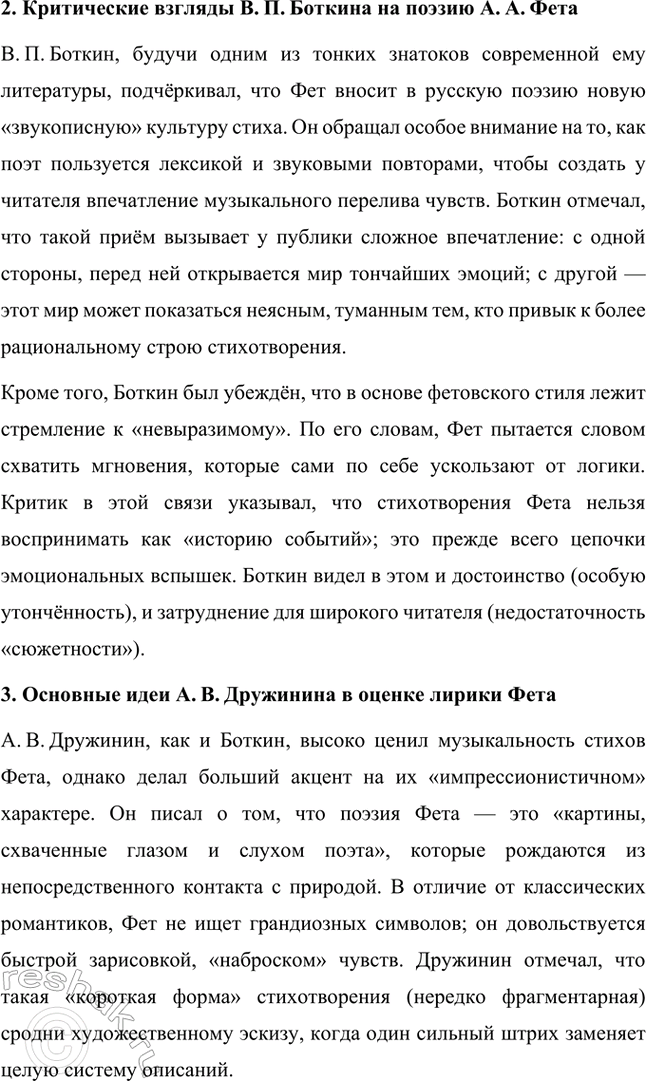
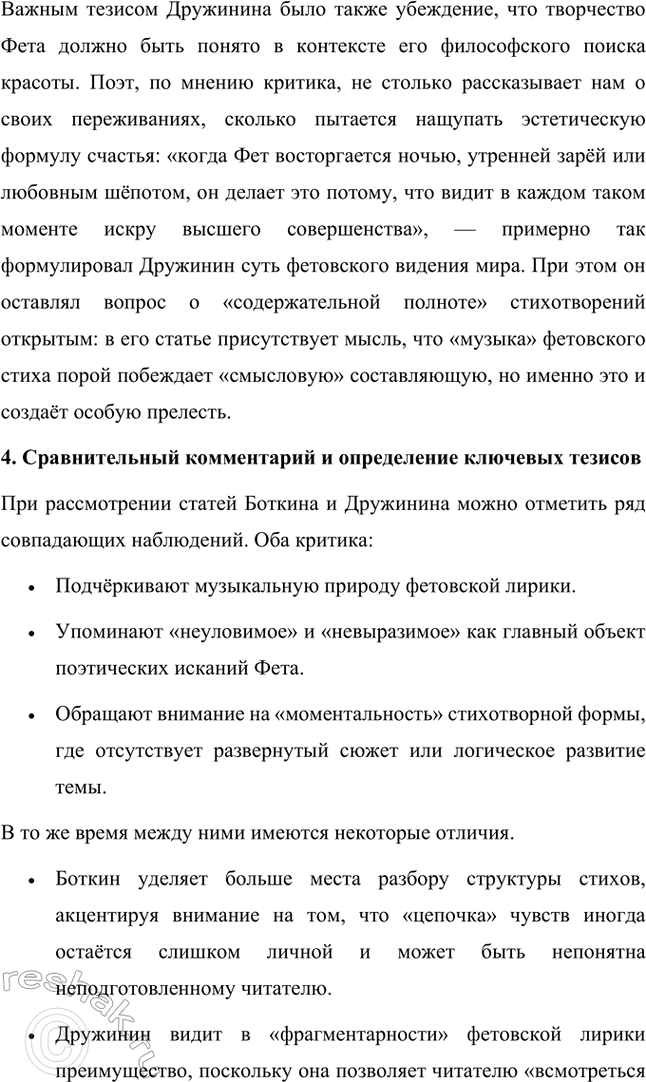
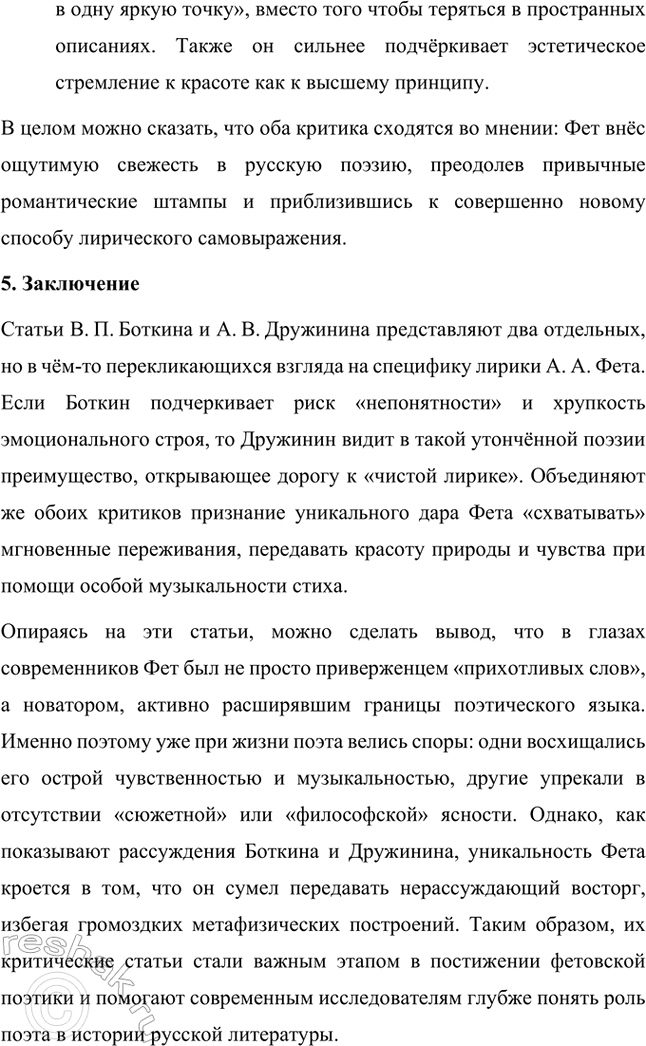
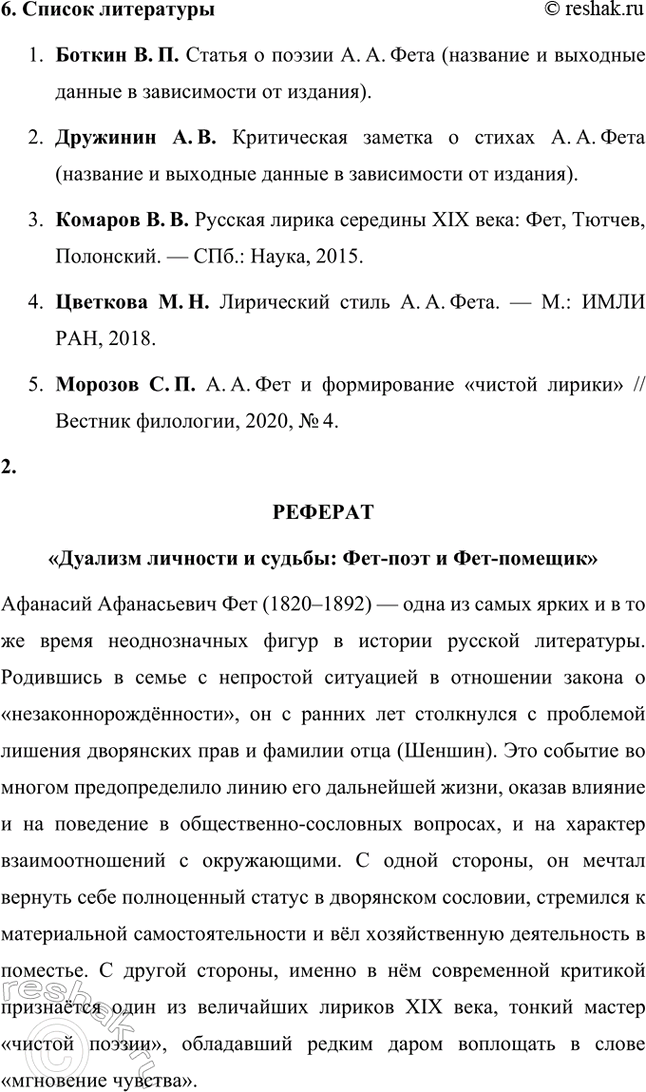
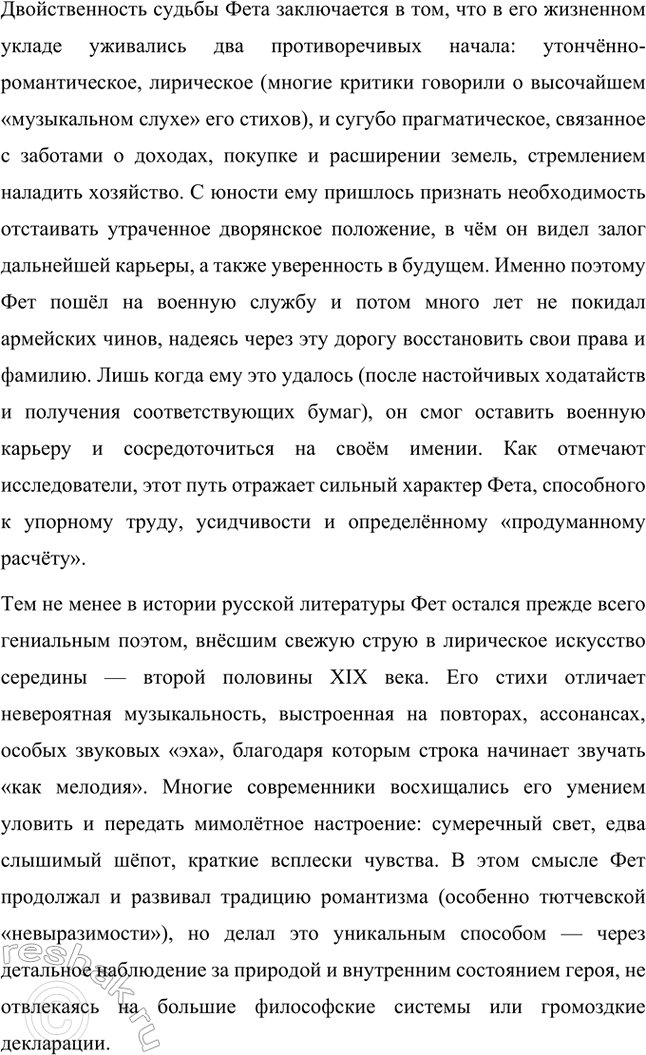
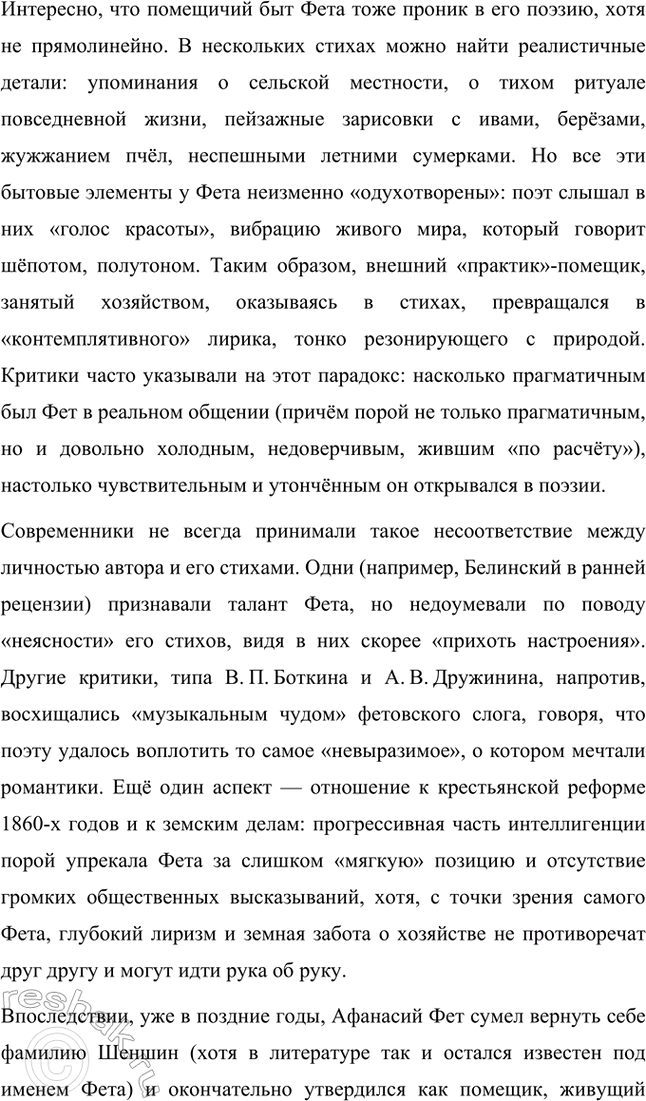
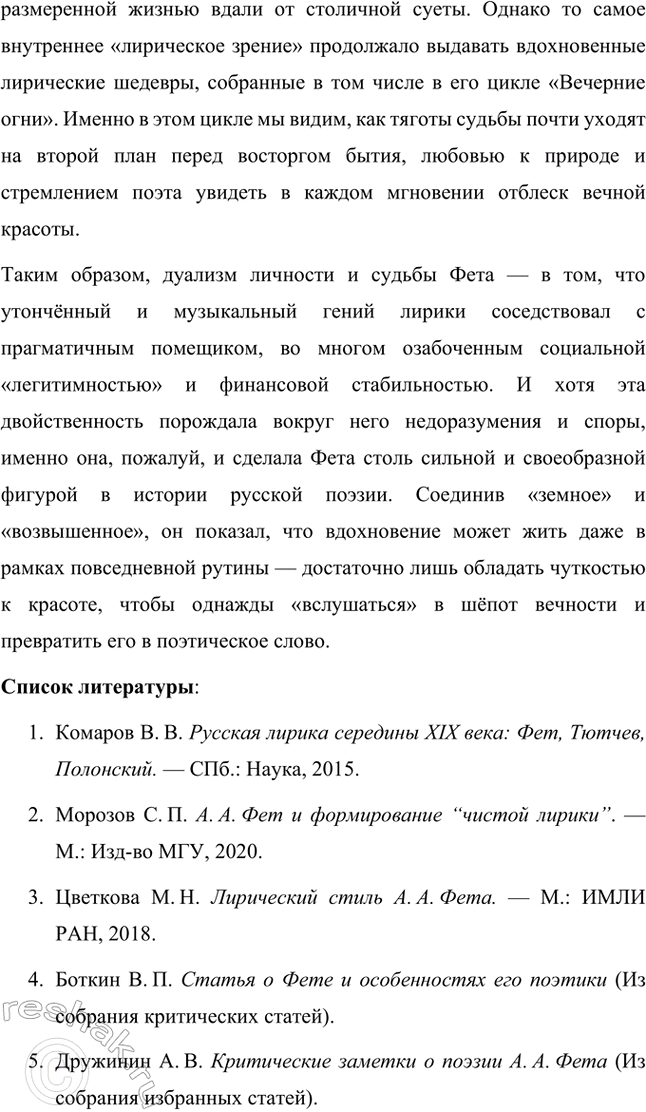

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Капитанова 10 класс, Просвещение:
Примерные темы сочинений. Стр. 17
1. В чём проявилось новаторство Л. Л. Фета в жанрах элегии и романса?
Желательно раскрыть в предложенной теме «мелодический» принцип выразительности лирики Л. Л. Фета, напевный характер его стиха и ответить на вопрос: рассчитывает ли поэт на логику лирического высказывания или на внушение читателям и слушателям передаваемых им переживаний?
Сочинение
В чем проявилось новаторство
А. А. Фета в жанрах элегии и романса?
А. А. Фет вошёл в историю русской литературы как поэт, сумевший передать с помощью слова впечатляющую глубину мгновенных переживаний и особую музыкальность лирического высказывания. Его обращение к жанрам элегии и романса хотя и опирается на литературную традицию (вспомним элегические и романсовые опыты Жуковского или раннюю лирику Пушкина), однако Фет вносит в эти формы нечто принципиально новое. Прежде всего, речь идёт о его «мелодическом» принципе выразительности и особом, почти «вокальном» звучании стихотворений, где музыка слов становится чуть ли не центральным элементом художественного эффекта.
Если говорить о жанре элегии, то к середине — второй половине XIX века он был в русской поэзии достаточно «разработан»: элегическая интонация у Жуковского отличалась мечтательной грустью, у Батюшкова — «светлой печалью», у более поздних поэтов возникали мотивы разочарованности или философских размышлений. Однако элегические произведения Фета не столько выстраивают логически связный монолог грусти, сколько создают «атмосферу» лирической меланхолии; его элегия часто состоит из обрывков полутонов, словно не договорённых до конца. Он умело пользуется приёмом повторов, подбирает слова с мягкими или шипящими согласными (ш, х, с) и ритмически «разрывает» строку так, что читающий или слушающий ощущает скорее музыкальный поток, нежели стройное строфическое построение. В этом и заключается новаторство: Фет не рассказывает о грустном настроении — он прямо «внушает» его звуком, интонацией, синтаксическими перебоями.
Аналогично в романсах Фета (условно говоря, стихи, которые можно назвать «романсовыми» по духу) проступает его стремление к максимальной слияемости слова и музыки. Некоторые из них позднее действительно стали романсами в буквальном смысле, будучи положенными на музыку. Своеобразный «песенный» ритм, который легко уловить в его любовной лирике, отвечает на вопрос, в чём именно «романсовое» новаторство Фета: он делает любовные стихи не длинными повествованиями, а короткими вспышками чувств, сжатой передачей интимных откровений. Ему важнее не аналитическое описание душевных мучений, а прямое погружение читателя в то самое мгновение, когда душа вдруг раскрылась навстречу любви или застыла в предощущении разлуки.
В связи с этим уместно рассмотреть «мелодический» принцип в его поэзии подробнее. Фет сознательно выстраивает лексические и фонетические ряды так, чтобы подчеркнуть звучание, а не содержание, — точнее, чтобы «смысл» рождался напрямую из звуковых сочетаний. Поэтому у него так часто встречаем перечисления с однотипными начальными словами («Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…»), а внутри строк — тонкие повторы, лёгкие созвучия, перекликающиеся окончания. Подобная манера создаёт эффект непрерывного вокального потока, который сам по себе, ещё до логического осмысления, захватывает слушающего. Читатель или слушатель начинает «слышать» стихотворение не как набор предложений, а как мелодию, способную передавать тончайшие душевные вибрации.
Следовательно, лирическая речь у Фета становится во многом рассчитанной не столько на «долготу» или логическую стройность, сколько на мгновенное эмоциональное впечатление. По сути, поэт больше надеется на слуховое, аффективное восприятие слов, чем на их рассудочное «чтение». Такое расположение фраз, такая интонация заставляют нас скорее «пропеть» его тексты. Одновременно происходит удивительная вещь: текст очень краток, и вместе с тем оставляет простор для «послевкусия». Именно благодаря этому сочетанию миниатюрности и звукового богатства романс и элегия у Фета получают новое звучание. Он избегает рассудочного анализа, вместо этого приглашает проникнуться настроением мгновения, в котором, по его убеждению, и скрыта вся глубина.
Таким образом, новаторство Фета в жанрах элегии и романса проявляется, во-первых, в его стремлении к «вокализации» текста, во-вторых, в отказе от развернутых сюжетных схем и насыщенных логических конструкций в пользу полузвуков, повторов, фрагментарных перечислений, которые подобны музыкальным пассажам. Такие произведения читатель не столько «разбирает» по смысловым звеньям, сколько воспринимает всеми чувствами сразу, погружаясь в порыв поэтического голоса. Можно сказать, что Фет «рассчитывает» не на растянутость лирического монолога, а на силу того чувства, которое возникает при слышании звучащей строфы или ритмического напева. По сути, он «напевает» свои стихи читателю, добиваясь эффекта близкого к непосредственному переживанию.
Все это делает поэзию Фета родственной музыкальному искусству. Его элегии — это не столько печальные размышления, сколько лирические «пения» о грусти, а его романсы про любовь звучат как откровенный диалог с сердцем читателя. Следовательно, «мелодический» принцип выразительности становится визитной карточкой фетовского новаторства, а слушатель или читатель оказывается в самом центре происходящего, «погружаясь» в переживания героя. Получается, что поэт доверяет и своей поэтической интуиции, и чуткому уху читателя, который, уловив музыку стиха, безошибочно почувствует всю гамму чувств, заложенных в тексте.
2. Философские темы и мотивы в лирике А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. В этой теме предполагается сравнить философско-поэтические размышления А. А. Фета с философско-поэтическими размышлениями Ф. И. Тютчева, установить общие для поэтов мотивы и индивидуальность их трактовок.
Философские темы и мотивы в лирике А. А. Фета и Ф. И. Тютчева
Фёдор Иванович Тютчев и Афанасий Афанасьевич Фет — два крупных поэта середины XIX века, чьи стихи часто объединяют в категорию «философской лирики». Несмотря на общее стремление заглянуть за пределы «обыденного» и прикоснуться к «вечному», их поэтические размышления различаются по ряду существенных аспектов и мотивов. Однако, чтобы увидеть индивидуальность их трактовок, достаточно сравнить характерные для обоих авторов темы: осмысление бесконечности, загадку человеческой души, невыразимость сокровенных чувств и связь человека с природой.
У Тютчева философская мысль нередко оформляется в масштабной «космической» образности. Его лирический герой ощущает себя частью вселенских процессов, а природа представляется чем-то грандиозным, в чём бурлят мощные стихийные силы. Поэт размышляет о том, как люди бессильны перед сокрушающей поступью космоса: бури, ночной мрак, грозные бездны не столько украшают мир, сколько тревожат и пугают своим размахом. «Silentium!» Тютчева — яркий пример того, как «невыразимое» и «непостижимое» оборачиваются призывом к молчанию: человек чувствует собственное бессилие перед этим непроявленным космическим порядком. Из такого подхода проистекает и характерный тютчевский парадокс: с одной стороны, поэта захватывает масштаб мировых процессов, а с другой — он видит трагизм внутреннего разлада между конечной человеческой природой и беспредельностью пространства.
У Фета философские мотивы, напротив, чаще приобретают форму тончайших «озарений», связанных с красотой и любовью. Он тоже размышляет о бессмертии, о роли человека во Вселенной, но делает это через мгновенное чувство «слияния» с природой. Фет не устраивает космических бурь, а создаёт картины почти абсолютной тишины или едва слышного шелеста, где герой вдруг осознаёт, что в этой кажущейся малости проявляется бесконечность. Например, в ряде стихотворений («Среди звёзд», «На стоге сена ночью июльской…», «Когда благостный бегл людских речей…») поэт показывает, как человек в один короткий миг способен чувствовать и бренность собственного бытия, и тайное прикосновение к вечному. В отличие от Тютчева, Фет не тяготеет к «бурям» и «страхам перед бездной», его влечёт лирическое созерцание: внутренний покой, полная тишина, ощущение космоса в мирном пейзаже. Он убеждён, что красота природы и любовь сами по себе открывают пути к познанию высшей гармонии.
Оба поэта сходятся в том, что мир нельзя объяснить одними лишь рациональными средствами. Тютчев восклицает «Молчи, скрывайся и таи…», Фет печалуется: «Как беден наш язык…» — и там, и там возникает мотив невозможности передать «всё» словами. Но если Тютчев ставит мысль о катастрофической дистанции между словом и чувством (что оборачивается мотивом метафизического ужаса), то Фет пытается преодолеть эту дистанцию «музыкой стиха». Он стремится не к молчанию, а к особому поэтическому языку полутонов, умолчаний, повторов, которые призваны хоть чуть-чуть приблизиться к «невыразимому». Следовательно, их индивидуальная трактовка «словесного бессилия» различна: у Тютчева это трагедия человеческого сознания, у Фета же — повод искать новые формы «музыкального» воплощения.
Важен и вопрос о том, как поэты видят место человека в мире. У Тютчева человек зачастую находится перед лицом грозного космоса, не понимает, как быть свободным в беспощадном пространстве. Фет же больше уверен в позитивном ответе: через красоту — особенно красоту любви и природы — человек прикасается к божественному. В стихотворении «Не тем, Господь, могуч, непостижим…» он прямо заявляет, что великая сила Творца не в устрашении, а в возможности даровать душе «благость» и стремление к совершенству. При чтении многих тютчевских вещей мы чувствуем высоту (и холод) надмирных сил, тогда как у Фета весенние ночи, свежие зори, ласточки и бесшумные звёзды являются символами тихого торжества божественного присутствия, мягко открывающего человеку горние тайны.
Таким образом, при наличии общего интереса к «невыразимому» и «вечному» Тютчев и Фет идут разными путями. Для первого ключевым образом остаётся «вселенская бездна», перед которой человек испытывает ужас и благоговение. У второго — «невысказанная красота» в тихих моментах, когда душа вдруг воспаряет и обретает внутреннюю гармонию. Для обоих поэтов красота природы — основа постижения жизни, но Тютчев более драматичен, а Фет — утончённо-лиричен. В итоге их философская лирика во многом дополняет друг друга: Тютчев показывает космическое величие (и беспощадность), Фет — домашний уют мироздания, где всё дышит тайной любовью. Их мотив «невыразимого», будучи столь созвучным, оказывается обёрнут разными интонациями, что даёт современному читателю возможность оценить широту «философского поля» русской поэзии XIX века, включающего и трагический, и ликующий взгляд на великий «театр» вселенной.
Темы исследовательских работ. Стр. 17
1.
Романтические клише и свежие образы в поэзии А. А. Фета (исследовательская работа)
Аннотация
В данной работе исследуется поэтическая практика Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892) в аспекте её соотношения с романтической традицией и поиском новых художественных образов. Особое внимание уделяется тому, как поэт, используя характерные приёмы романтизма, избегает прямых «клише», вводя вместо них оригинальные решения — прежде всего за счёт музыкальности стиха и тончайшей передачи душевных состояний. Анализируется ряд его стихотворений, где видны отголоски романтических канонов (например, мотив ночи, тоски, одинокого лирического героя), но при этом обнаруживается собственная художественная свежесть, выражающаяся в «предельной конкретике» чувственных образов и особом синтаксическом строе.
Введение
Афанасий Фет нередко связывается исследователями с поздним российским романтизмом или «романтической школой» середины XIX века. Действительно, многие мотивы его лирики (ночь, луна, тревожная мечтательность, мотив «невыразимого» чувства) явственно восходят к романтической традиции, заложенной ещё Жуковским и Батюшковым, а отчасти и к западноевропейским поэтам-романтикам. Однако уже современники Фета обращали внимание на то, что поэт не копирует готовые схемы. Он меняет привычное романтическое «клише» на живую, трепетную передачу впечатлений, где больше места уделено не возвышенно-патетическим штампам, а конкретным «микродеталям» природы и ощущениям лирического героя.
Цель данной работы — показать, как именно Фет использует романтическую образность (прежде всего мотивы любви, ночи, одиночества, тайны) и почему его поэзия при этом не выглядит вторичной. В ходе исследования планируется рассмотреть несколько характерных стихотворений, проанализировать их стилистические и звуковые решения, а также описать тот «свежий взгляд», который отличает Фета от классического романтического канона.
Обзор литературы
Литературоведы, занимающиеся наследием Фета, неоднократно указывали на связь его творчества с романтической традицией. В частности, В. В. Комаров в работе «Русская лирика середины XIX века» (2015) подчёркивает «изысканную музыкальность» фетовских текстов как преодоление романтической «риторичности». По мнению А. Г. Бурова («Поэзия А. А. Фета в контексте западного романтизма», 2018), мотив «невыразимого» у Фета несёт скорее личностно-чувственную окраску, чем общекосмическую, что отодвигает его от «классических» романтиков, ориентировавшихся на трагическое противостояние героя и мира. Кроме того, многие исследователи (С. П. Морозов, М. Н. Цветкова) отмечают повышенное внимание Фета к лексической конкретике — например, перечисление мелких подробностей природы, звуков, визуальных полутонов, тогда как романтики старшего поколения обычно увлекались большими обобщающими символами.
Таким образом, в современной науке утвердилось представление о Фете как о поэте, продолжающем некоторые романтические линии (особенно тему таинственного единения с природой) и одновременно существенно обновляющем поэтический язык.
Основная часть
1. Романтические «клише» в лирике Фета
Под «клише» здесь подразумеваются устойчивые романтические мотивы и приёмы, уже ставшие общим местом к середине XIX века. Прежде всего, это:
• Мотив ночи: романтики часто связывали ночной пейзаж с интимной атмосферой и философской рефлексией.
• Тема любовной тоски: для романтизма характерны герои, страдающие от недостижимого идеала.
• Образ «невыразимого»: стремление к тому, чтобы сказать о вещах, которые не поддаются логическому описанию.
У Фета можно найти все эти элементы. Классический пример — стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…», где присутствует ночная обстановка, едва различимые звуки (шорох, дыхание, поцелуй). Романтическую основу здесь видно в мотиве тайны любви, почти мистической «запретности» ночного разговора. С другой стороны, Фет превращает эту ситуацию в особый «звуковой поток», где романтическая тема передаётся через музыку слов, а не через традиционные символы (такие как готические руины, мрачные скалы и т. д.).
Подобным образом в стихотворениях «Когда ласточка весною…» или «На стоге сена ночью июльской…» он тоже касается одиночества и любви, однако вместо «книжного» одиночества романтика мы видим конкретные пейзажные детали: ощущение мягкого сеновала, упоительный аромат ночного воздуха, едва слышное движение звёзд. То есть романтический мотив (одиночная встреча с красотой, как в лучших образцах европейского романтизма) наполняется реалистичными штрихами, которые «заземляют» эмоциональную сцену и придают ей свежесть.
2. Свежие образы и их «музыкальность»
Главный признак своеобразия фетовской поэзии — это, по мнению многих критиков, «музыкальность» стиха. Там, где романтик мог бы впасть в патетику — воззвать к небу или проклясть землю, — Фет пользуется звукописью и повторами, заставляя читателя (или слушателя) почувствовать нечто вроде вибрации, похожей на мелодию.
Примером может служить «Это утро, радость эта…»: повтор слов «это… эта… этот…» создает равномерный ритм, подобный зачиненному припеву. По форме такая приёмообразная перечислительная структура напоминает «полуспетую» речь, в которой нет места классической романтической декларации (вроде «О, мой потерянный идеал!»). Вместо возвышенных восклицаний — энергия мельчайших деталей. При том что мотив весны, утреннего восхода и радостного изумления вполне романтичен, у Фета он звучит нестандартно: читатель сталкивается с живым «захватом» в процессе наблюдения мелочей, а не с многостраничным философским разъяснением об устроении мира.
Сходный принцип работает в лирике, где задействована лексическая конкретика: капли, шорох, пух, трели, сеновал, ласточка. Каждое из этих слов несёт не столько «символическую» нагрузку, сколько живое впечатление — причём впечатление мгновенное. Таким образом, Фет избегает обширных романтических описаний и переходит к стилистике «фрагмента», лишённого развёрнутых аллегорий. Получается своеобразное «очищение» романтической поэтики от штампов — мы чувствуем атмосферу чуда и тайны, но она складывается из крошечных звукосочетаний и деталей.
Анализ конкретных примеров
1. «Шёпот, робкое дыханье…»
o Романтическое начало: мотивы ночной встречи, любовь, тишина, невыразимая сладость.
o Обновление: минимум декларативности, фактически нет определения героя, нет громких фраз. Вместо этого перечисляются «шёпот», «дыханье», «звучащие поцелуи», «слёзы», «свеча». Всё это даёт «камерный» эффект и музыкальную ткань.
2. «На стоге сена ночью июльской…»
o Романтическое начало: настроение единения с природой, созерцательное состояние героя, намёк на «космическую» глубину ночи.
o Обновление: необычная для романтики деталь — «стог сена». Ситуация не выглядит «возвышенной» в привычном смысле, но именно за счёт «прозаического» предмета Фет достигает особой искренности. Он как будто говорит: «Да, я лежу на стоге сена, но даже здесь слышу голос бесконечности».
3. «Это утро, радость эта…»
o Романтическое начало: торжество весны, радость, переживание красоты, традиционный для романтиков мотив «рассвета» как символа обновления.
o Обновление: построение на почти детском перечислении «это… это… это…» вместо высоких эпитетов. Стихотворение приобретает не аналитику, а динамику восхищения. Создаётся иллюзия «моментального выдоха» радости.
Выводы
Фетовская поэтика формировалась в эпоху, когда романтические приёмы уже во многом стали шаблонами, однако поэт сумел breathed new life into (перевести? Перенести?)- > "вдохнуть новую жизнь в" старые мотивы. Он сохраняет ключевые элементы романтизма — культ «невыразимого», стремление к глубокому переживанию, любовь к ночным и утренним пейзажам, — но вместо избыточных патетических оборотов вводит «звукопись» и точечные детали, возникающие почти в режиме непосредственной фиксации чувств. Романтические «клише» смягчаются за счёт интимного, камерного подхода, когда природа рисуется не как грандиозная декорация, а как поле для тончайшего взаимодействия с человеком.
Таким образом, поэзия Фета представляет собой редкий пример гармонического сочетания романтического наследия и свежих художественных решений. Поэт отказывается от сюжетной «драмы» и на первом месте выдвигает мгновенные ощущения, которые структурируются как мелодия. В результате даже знакомые романтические темы воспринимаются у него неожиданно, «пространство» стихотворения напоминает скорее музыкальную миниатюру, чем классический романтический трактат. Это стало одной из главных причин, по которым лирику Фета высоко ценили (и продолжают ценить) ценители русской поэзии: он сохранил романтическое восхищение жизнью и вместе с тем проложил путь к модернистскому пониманию стиха как средства передавать то, что логически непереводимо.
Список литературы:
1. Буров А. Г. Поэзия А. А. Фета в контексте западного романтизма. — М.: Изд-во МГУ, 2018.
2. Комаров В. В. Русская лирика середины XIX века: Фет, Тютчев, Полонский. — СПб.: Наука, 2015.
3. Морозов С. П. Мотивы романтической традиции в лирике А. А. Фета // Вестник филологических наук, 2020, № 4.
4. Цветкова М. Н. Лексическая конкретика и приёмы звукописи у Фета. — М.: ИМЛИ РАН, 2017.
5. Ямпольский И. Е. О лирике «чистого чувства»: взгляд на позднюю поэзию Фета // Русская поэзия, 2019, № 2.
2.
Тема поэтического вдохновения в лирике А. А. Фета (исследовательская работа)
Аннотация
В данной исследовательской работе рассматривается, как Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) отражает в своих стихах феномен творческого вдохновения. Анализируются специфические особенности его лирики, связанные с внезапностью, мимолётностью и «музыкальностью» вдохновения, а также роль красоты и любви как движущих сил творческого процесса. Работа опирается на тексты самого поэта и критические исследования о поэзии Фета, позволяющие увидеть, как внутри «чистой лирики» рождается идея «озарения», переходящего в законченное стихотворение.
Введение
Поэтическое вдохновение традиционно занимает одно из центральных мест в русской литературе: уже с времён Ломоносова и Державина поэт осмыслялся как «пророк» или «избранник», получающий свой дар свыше. В XIX веке, после расцвета романтической эпохи, тема вдохновения приобрела новые оттенки, связанные с проникновением в «тайны» природы и внутреннего мира. Для Афанасия Афанасьевича Фета поэзия была не просто творческим самовыражением, а единственным способом «уловить» невыразимое; его стихи зачастую представляют собой зафиксированные вспышки вдохновения, переходящие в форму короткого лирического фрагмента.
Цель данной работы — показать, каким образом в лирике Фета запечатлено само явление вдохновения, как он его описывает или, напротив, недоговаривает, и какие мотивы способствуют появлению этого «озарения» в тексте.
Обзор литературы
Исследователи творчества Фета (В. В. Комаров, М. Н. Цветкова, С. П. Морозов и др.) неоднократно поднимали вопрос о музыкальном строе его стихов и особом внимании к «мгновенности» восприятия. В монографии «Русская лирика середины XIX века» Комаров указывает, что Фет придавал поэтическому вдохновению статус почти божественного дара, при этом сам акт вдохновения тесно связан с красотой природы и любовным чувством. Цветкова обращает внимание на лексические и звуковые приёмы («шёпот», «дыхание», многократные повторы), которые превращают стихотворение в своего рода «фиксированный импульс» вдохновения. Морозов подчёркивает, что у Фета почти не встречается прямых деклараций о муках творчества: вдохновение у него возникает и гаснет быстро, не выплёскиваясь в традиционные романтические формулы «горения» или «борьбы». Этот феномен заслуживает отдельного анализа, который мы попытаемся осуществить в данной работе.
Основная часть
1. Внезапность и мимолётность вдохновения
Для Фета очень важно, что истинное вдохновение не планируется и не подвластно воле самого поэта. Оно вспыхивает «как искра», когда герой сталкивается с чудом красоты — будь то красота природы или мгновение любви. Например, в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье…» (одном из самых цитируемых) нет прямых упоминаний о «вдохновении», однако композиция строится так, что читатель ощущает рождение стиха из полутьмы, из шороха, из почти бессловесного шёпота. Возникает впечатление, что сама атмосфера интимной ночи «зажгла» в поэте те слова, которые тут же перешли на бумагу, причём в виде непрерывных перечислений деталей: «шёпот», «дыханье», «вздох», «слёзы» и т. д. Именно подобная структура показывает: вдохновение здесь скорее импульс, чем продуманная поэтическая программа.
2. «Музыкальный» принцип и его связь с творческим актом
Исследователи часто говорят о «музыкальности» лирики Фета. Но в контексте темы вдохновения важно, что эта музыкальность выступает средством «схватить миг»: короткие повторы слов, полузвуки, звукопись и ассонансы создают эффект внезапного «всплеска». Поэт словно не заканчивает фразы, выстраивая их в неразрывный синтаксический поток — так читающий получает впечатление «сверхэнергии», выливающейся в поэтические строки.
Так, в «Это утро, радость эта…» Фет выстраивает череду восклицательных строк, где каждая начинается с «Это… этот… эти…»: кажется, что автор в состоянии восторженного подъёма, когда любое видимое или услышанное явление сразу включается в общую волну вдохновения. Итоговая строка «Это всё — весна» звучит как высвобожденный вздох, словно сам факт написания стихотворения становится «официальной фиксацией» неожиданного прилива счастья.
3. Связь вдохновения с красотой и любовью
Важной составляющей фетовского творческого «озарения» является любовь — или, шире, чувство единения с миром. В его поэзии нет строгого различения между любовью к человеку и любовью к природе: оба вида эмоций могут моментально пробудить в душе поэта тот творческий импульс, который рождает стих. Например, в «Одним гулким вздохом заманчиво живую…» герой пытается «вдохнуть» жизнь «целиком»: это состояние близко к экстатическому. Хотя здесь нет прямой речи об искусстве, вся текстовая ткань напоминает нам, как поэта охватывает вдохновение: ему достаточно одного «гулкого вздоха», чтобы слиться со вселенной и затем высказать это в своих строках.
В более поздних стихах (из сборника «Вечерние огни») Фет описывает красоту как высший дар, способный преодолеть страх перед смертью. Благодаря красоте и любовному порыву поэт ощущает, что душа может вознестись над земной бренностью и прикоснуться к высшим сферам. Этот пафос непосредственно связан с тем, почему у него вдохновение выступает не просто как творческий метод, а как «спасение души» от смертной ограниченности. Тем самым, акт создания стихотворения становится актом духовного освобождения.
4. Отсутствие длительного «кризиса» творчества
В то время как многие романтические поэты описывали «кризисы» вдохновения (мучительные поиски, разлад души и т. д.), Фет подаёт это иначе. В его лирике не встречаются большие страдания по поводу невозможности писать: да, в отдельных строках («Как беден наш язык…») он сетует на то, что слова не успевают передать все оттенки чувственного опыта, но это скорее вдохновляет искать особые приёмы звукописи, чем вызывает творческие муки. В стихах нет затяжной драмы «я хочу писать, но не могу»; напротив, создание текста почти всегда выставляется как результат неожиданных счастливых находок. Логично предположить, что в реальности, конечно же, Фету было нелегко, но художественно он предпочитал акцентировать внимание на радости вдохновения, а не на трудностях.
Выводы
Тема поэтического вдохновения в лирике А. А. Фета связана с концепцией «схватывания мгновенной красоты», будь то красота ночи, утреннего сияния или едва уловимого чувства любви. Поэт избегает развернутых рассуждений о своём внутреннем состоянии, предпочитая передавать само рождение стиха через музыкальный поток слов и звуков. Благодаря такому подходу у читателя создаётся впечатление, что вдохновение «происходит» буквально на глазах: оно не требует сложной подготовки, а приходит внезапно и материализуется в коротких поэтических миниатюрах.
Важные аспекты этой темы — тесная связь вдохновения с красотой (как природы, так и человеческих чувств) и радостный настрой поэта, подчёркивающий освобождающую силу творческого процесса. В отличие от многих романтиков, Фет не культивирует драму «мучительного творчества»: его лирика пронизана верой в то, что стоит лишь открыть душу навстречу гармонии — и слова сами сложатся в легкий, но яркий стих.
Таким образом, можно сказать, что тема вдохновения у Фета отражает не столько романтические страдания «мятежного поэта», сколько непосредственное переживание красоты, которое мгновенно оформляется в поэтическую речь. Именно эта особенность делает его лирику уникальной и даёт возможность увидеть, как «озарение» превращается в музыкальное звучание стиха, захватывающее читателя простотой и утончённостью одновременно.
Список литературы:
1. Комаров В. В. Русская лирика середины XIX века: Фет, Тютчев, Полонский. — СПб.: Наука, 2015.
2. Морозов С. П. Мироздание в лирике А. А. Фета. — М.: Изд-во МГУ, 2017.
3. Цветкова М. Н. Стилистические приёмы А. А. Фета: звукопись, интонация, синтаксис. — М.: ИМЛИ РАН, 2019.
4. Ямпольский И. Е. Поэтическое озарение в русской лирике XIX века. — М.: Высшая школа, 2020.
5. Буров А. Г. Эстетические воззрения А. А. Фета в период «Вечерних огней» // Вестник филологии, 2018, № 3.
Темы рефератов. Стр. 17
1. Прочтите статьи В. П. Боткина и Л. В. Дружинина о поэзии А. А. Фета и прокомментируйте их. Определите основные идеи статей.
РЕФЕРАТ
по статьям В. П. Боткина и А. В. Дружинина о поэзии А. А. Фета
1. Введение
Статьи В. П. Боткина и А. В. Дружинина об А. А. Фете занимают важное место в критическом осмыслении русской поэзии середины XIX века. Оба критика выступали в числе первых, кто обратил пристальное внимание на особенности лирики Фета, её музыкальность, философскую насыщенность и способность передавать «мгновенные» чувства. Однако в их оценках можно обнаружить и заметные отличия: каждый критик выдвигал собственные аргументы и видел в творчестве Фета разные эстетические ориентиры. Цель настоящего реферата — проанализировать главные идеи этих статей, показать, какие аспекты фетовской поэтики волновали В. П. Боткина и А. В. Дружинина, а также дать комментарий относительно общей критической картины восприятия Фета в упомянутый период.
2. Критические взгляды В. П. Боткина на поэзию А. А. Фета
В. П. Боткин, будучи одним из тонких знатоков современной ему литературы, подчёркивал, что Фет вносит в русскую поэзию новую «звукописную» культуру стиха. Он обращал особое внимание на то, как поэт пользуется лексикой и звуковыми повторами, чтобы создать у читателя впечатление музыкального перелива чувств. Боткин отмечал, что такой приём вызывает у публики сложное впечатление: с одной стороны, перед ней открывается мир тончайших эмоций; с другой — этот мир может показаться неясным, туманным тем, кто привык к более рациональному строю стихотворения.
Кроме того, Боткин был убеждён, что в основе фетовского стиля лежит стремление к «невыразимому». По его словам, Фет пытается словом схватить мгновения, которые сами по себе ускользают от логики. Критик в этой связи указывал, что стихотворения Фета нельзя воспринимать как «историю событий»; это прежде всего цепочки эмоциональных вспышек. Боткин видел в этом и достоинство (особую утончённость), и затруднение для широкого читателя (недостаточность «сюжетности»).
3. Основные идеи А. В. Дружинина в оценке лирики Фета
А. В. Дружинин, как и Боткин, высоко ценил музыкальность стихов Фета, однако делал больший акцент на их «импрессионистичном» характере. Он писал о том, что поэзия Фета — это «картины, схваченные глазом и слухом поэта», которые рождаются из непосредственного контакта с природой. В отличие от классических романтиков, Фет не ищет грандиозных символов; он довольствуется быстрой зарисовкой, «наброском» чувств. Дружинин отмечал, что такая «короткая форма» стихотворения (нередко фрагментарная) сродни художественному эскизу, когда один сильный штрих заменяет целую систему описаний.
Важным тезисом Дружинина было также убеждение, что творчество Фета должно быть понято в контексте его философского поиска красоты. Поэт, по мнению критика, не столько рассказывает нам о своих переживаниях, сколько пытается нащупать эстетическую формулу счастья: «когда Фет восторгается ночью, утренней зарёй или любовным шёпотом, он делает это потому, что видит в каждом таком моменте искру высшего совершенства», — примерно так формулировал Дружинин суть фетовского видения мира. При этом он оставлял вопрос о «содержательной полноте» стихотворений открытым: в его статье присутствует мысль, что «музыка» фетовского стиха порой побеждает «смысловую» составляющую, но именно это и создаёт особую прелесть.
4. Сравнительный комментарий и определение ключевых тезисов
При рассмотрении статей Боткина и Дружинина можно отметить ряд совпадающих наблюдений. Оба критика:
• Подчёркивают музыкальную природу фетовской лирики.
• Упоминают «неуловимое» и «невыразимое» как главный объект поэтических исканий Фета.
• Обращают внимание на «моментальность» стихотворной формы, где отсутствует развернутый сюжет или логическое развитие темы.
В то же время между ними имеются некоторые отличия.
• Боткин уделяет больше места разбору структуры стихов, акцентируя внимание на том, что «цепочка» чувств иногда остаётся слишком личной и может быть непонятна неподготовленному читателю.
• Дружинин видит в «фрагментарности» фетовской лирики преимущество, поскольку она позволяет читателю «всмотреться в одну яркую точку», вместо того чтобы теряться в пространных описаниях. Также он сильнее подчёркивает эстетическое стремление к красоте как к высшему принципу.
В целом можно сказать, что оба критика сходятся во мнении: Фет внёс ощутимую свежесть в русскую поэзию, преодолев привычные романтические штампы и приблизившись к совершенно новому способу лирического самовыражения.
5. Заключение
Статьи В. П. Боткина и А. В. Дружинина представляют два отдельных, но в чём-то перекликающихся взгляда на специфику лирики А. А. Фета. Если Боткин подчеркивает риск «непонятности» и хрупкость эмоционального строя, то Дружинин видит в такой утончённой поэзии преимущество, открывающее дорогу к «чистой лирике». Объединяют же обоих критиков признание уникального дара Фета «схватывать» мгновенные переживания, передавать красоту природы и чувства при помощи особой музыкальности стиха.
Опираясь на эти статьи, можно сделать вывод, что в глазах современников Фет был не просто приверженцем «прихотливых слов», а новатором, активно расширявшим границы поэтического языка. Именно поэтому уже при жизни поэта велись споры: одни восхищались его острой чувственностью и музыкальностью, другие упрекали в отсутствии «сюжетной» или «философской» ясности. Однако, как показывают рассуждения Боткина и Дружинина, уникальность Фета кроется в том, что он сумел передавать нерассуждающий восторг, избегая громоздких метафизических построений. Таким образом, их критические статьи стали важным этапом в постижении фетовской поэтики и помогают современным исследователям глубже понять роль поэта в истории русской литературы.
6. Список литературы
1. Боткин В. П. Статья о поэзии А. А. Фета (название и выходные данные в зависимости от издания).
2. Дружинин А. В. Критическая заметка о стихах А. А. Фета (название и выходные данные в зависимости от издания).
3. Комаров В. В. Русская лирика середины XIX века: Фет, Тютчев, Полонский. — СПб.: Наука, 2015.
4. Цветкова М. Н. Лирический стиль А. А. Фета. — М.: ИМЛИ РАН, 2018.
5. Морозов С. П. А. А. Фет и формирование «чистой лирики» // Вестник филологии, 2020, № 4.
2. Составьте план реферата на тему «Дуализм личности и судьбы: Фет-поэт и Фет-помещик».
РЕФЕРАТ
«Дуализм личности и судьбы: Фет-поэт и Фет-помещик»
Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) — одна из самых ярких и в то же время неоднозначных фигур в истории русской литературы. Родившись в семье с непростой ситуацией в отношении закона о «незаконнорождённости», он с ранних лет столкнулся с проблемой лишения дворянских прав и фамилии отца (Шеншин). Это событие во многом предопределило линию его дальнейшей жизни, оказав влияние и на поведение в общественно-сословных вопросах, и на характер взаимоотношений с окружающими. С одной стороны, он мечтал вернуть себе полноценный статус в дворянском сословии, стремился к материальной самостоятельности и вёл хозяйственную деятельность в поместье. С другой стороны, именно в нём современной критикой признаётся один из величайших лириков XIX века, тонкий мастер «чистой поэзии», обладавший редким даром воплощать в слове «мгновение чувства».
Двойственность судьбы Фета заключается в том, что в его жизненном укладе уживались два противоречивых начала: утончённо-романтическое, лирическое (многие критики говорили о высочайшем «музыкальном слухе» его стихов), и сугубо прагматическое, связанное с заботами о доходах, покупке и расширении земель, стремлением наладить хозяйство. С юности ему пришлось признать необходимость отстаивать утраченное дворянское положение, в чём он видел залог дальнейшей карьеры, а также уверенность в будущем. Именно поэтому Фет пошёл на военную службу и потом много лет не покидал армейских чинов, надеясь через эту дорогу восстановить свои права и фамилию. Лишь когда ему это удалось (после настойчивых ходатайств и получения соответствующих бумаг), он смог оставить военную карьеру и сосредоточиться на своём имении. Как отмечают исследователи, этот путь отражает сильный характер Фета, способного к упорному труду, усидчивости и определённому «продуманному расчёту».
Тем не менее в истории русской литературы Фет остался прежде всего гениальным поэтом, внёсшим свежую струю в лирическое искусство середины — второй половины XIX века. Его стихи отличает невероятная музыкальность, выстроенная на повторах, ассонансах, особых звуковых «эха», благодаря которым строка начинает звучать «как мелодия». Многие современники восхищались его умением уловить и передать мимолётное настроение: сумеречный свет, едва слышимый шёпот, краткие всплески чувства. В этом смысле Фет продолжал и развивал традицию романтизма (особенно тютчевской «невыразимости»), но делал это уникальным способом — через детальное наблюдение за природой и внутренним состоянием героя, не отвлекаясь на большие философские системы или громоздкие декларации.
Интересно, что помещичий быт Фета тоже проник в его поэзию, хотя не прямолинейно. В нескольких стихах можно найти реалистичные детали: упоминания о сельской местности, о тихом ритуале повседневной жизни, пейзажные зарисовки с ивами, берёзами, жужжанием пчёл, неспешными летними сумерками. Но все эти бытовые элементы у Фета неизменно «одухотворены»: поэт слышал в них «голос красоты», вибрацию живого мира, который говорит шёпотом, полутоном. Таким образом, внешний «практик»-помещик, занятый хозяйством, оказываясь в стихах, превращался в «контемплятивного» лирика, тонко резонирующего с природой. Критики часто указывали на этот парадокс: насколько прагматичным был Фет в реальном общении (причём порой не только прагматичным, но и довольно холодным, недоверчивым, жившим «по расчёту»), настолько чувствительным и утончённым он открывался в поэзии.
Современники не всегда принимали такое несоответствие между личностью автора и его стихами. Одни (например, Белинский в ранней рецензии) признавали талант Фета, но недоумевали по поводу «неясности» его стихов, видя в них скорее «прихоть настроения». Другие критики, типа В. П. Боткина и А. В. Дружинина, напротив, восхищались «музыкальным чудом» фетовского слога, говоря, что поэту удалось воплотить то самое «невыразимое», о котором мечтали романтики. Ещё один аспект — отношение к крестьянской реформе 1860-х годов и к земским делам: прогрессивная часть интеллигенции порой упрекала Фета за слишком «мягкую» позицию и отсутствие громких общественных высказываний, хотя, с точки зрения самого Фета, глубокий лиризм и земная забота о хозяйстве не противоречат друг другу и могут идти рука об руку.
Впоследствии, уже в поздние годы, Афанасий Фет сумел вернуть себе фамилию Шеншин (хотя в литературе так и остался известен под именем Фета) и окончательно утвердился как помещик, живущий размеренной жизнью вдали от столичной суеты. Однако то самое внутреннее «лирическое зрение» продолжало выдавать вдохновенные лирические шедевры, собранные в том числе в его цикле «Вечерние огни». Именно в этом цикле мы видим, как тяготы судьбы почти уходят на второй план перед восторгом бытия, любовью к природе и стремлением поэта увидеть в каждом мгновении отблеск вечной красоты.
Таким образом, дуализм личности и судьбы Фета — в том, что утончённый и музыкальный гений лирики соседствовал с прагматичным помещиком, во многом озабоченным социальной «легитимностью» и финансовой стабильностью. И хотя эта двойственность порождала вокруг него недоразумения и споры, именно она, пожалуй, и сделала Фета столь сильной и своеобразной фигурой в истории русской поэзии. Соединив «земное» и «возвышенное», он показал, что вдохновение может жить даже в рамках повседневной рутины — достаточно лишь обладать чуткостью к красоте, чтобы однажды «вслушаться» в шёпот вечности и превратить его в поэтическое слово.
Список литературы:
1. Комаров В. В. Русская лирика середины XIX века: Фет, Тютчев, Полонский. — СПб.: Наука, 2015.
2. Морозов С. П. А. А. Фет и формирование “чистой лирики”. — М.: Изд-во МГУ, 2020.
3. Цветкова М. Н. Лирический стиль А. А. Фета. — М.: ИМЛИ РАН, 2018.
4. Боткин В. П. Статья о Фете и особенностях его поэтики (Из собрания критических статей).
5. Дружинин А. В. Критические заметки о поэзии А. А. Фета (Из собрания избранных статей).
Популярные решебники 10 класс Все решебники
*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением





